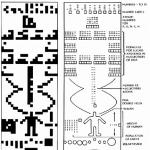Леонид Николаевич Андреев
«Иуда Искариот»
Среди учеников Христа, таких открытых, понятных с первого взгляда, Иуда из Кариота выделяется не только дурной славой, но и двойственностью облика: лицо его как будто сшито из двух половинок. Одна сторона лица — беспрерывно подвижная, усеянная морщинами, с черным острым глазом, другая — мертвенно гладкая и кажущаяся несоразмерно большой от широко открытого, незрячего, затянутого бельмом ока.
Когда он появился — никто из апостолов не заметил. Что заставило Иисуса приблизить его к себе и что влечёт к Учителю этого Иуду — также вопросы без ответов. Петр, Иоанн, Фома смотрят — и не в силах постичь эту близость красоты и безобразия, кротости и порока — близость восседающих рядом за столом Христа и Иуды.
Много раз спрашивали апостолы Иуду о том, что понуждает его совершать худые поступки, тот с усмешкой ответствует: каждый человек хоть однажды согрешил. Слова Иуды почти похожи на то, что говорит им Христос: никто никого не вправе осуждать. И верные Учителю апостолы смиряют свой гнев на Иуду: «Это ничего, что ты столь безобразен. В наши рыбацкие сети попадаются и не такие уродины!»
«Скажи, Иуда, а твой отец был хорошим человеком?» — «А кто был мой отец? Тот, кто сек меня розгой? Или дьявол, козел, петух? Разве может Иуда знать всех, с кем делила ложе его мать?»
Ответ Иуды потрясает апостолов: кто ославливает своих родителей, обречён погибели! «Скажи, а мы — хорошие люди?» — «Ах, искушают бедного Иуду, обижают Иуду!» — кривляется рыжий человек из Кариота.
В одном селении их обвиняют в краже козлёнка, зная, что с ними ходит Иуда. В другой деревне после проповеди Христа хотели побить Его и учеников камнями; Иуда бросился на толпу, крича, что Учитель вовсе не одержим бесом, что Он — просто обманщик, любящий деньги, такой же, как и он, Иуда, — и толпа смирилась: «Недостойны эти пришельцы умереть от руки честного!»
Иисус покидает селение в гневе, удаляясь от него большими шагами; ученики шествуют за Ним на почтительном расстоянии, кляня Иуду. «Теперь я верю, что отец твой — дьявол», — бросает ему в лицо Фома. Глупцы! Он им спас жизнь, а они ещё раз его не оценили…
Как-то на привале апостолы вздумали развлечься: мерясь силою, они поднимают с земли камни — кто больший? — и швыряют в пропасть. Иуда поднимает самый тяжёлый обломок скалы. Лицо его сияет торжеством: теперь всем ясно, что он, Иуда, — самый сильный, самый прекрасный, лучший из двенадцати. «Господи, — молит Христа Петр, — я не хочу, чтобы сильнейшим был Иуда. Помоги мне его одолеть!» — «А кто поможет Искариоту?» — с печалью ответствует Иисус.
Иуда, назначенный Христом хранить все их сбережения, утаивает несколько монет — это открывается. Ученики в негодовании. Иуда приведён к Христу — и Тот вновь вступается за него: «Никто не должен считать, сколько денег присвоил наш брат. Такие упрёки обижают его». Вечером за ужином Иуда весел, но радует его не столько примирение с апостолами, сколько то, что Учитель опять выделил его из общего ряда: «Как же не быть весёлым человеку, которого сегодня столько целовали за кражу? Если б я не украл — разве узнал бы Иоанн, что такое любовь к ближнему? Разве не весело быть крюком, на котором один развешивает для просушки отсыревшую добродетель, а другой — ум, потраченный молью?»
Приближаются скорбные последние дни Христа. Петр и Иоанн ведут спор, кто из них более достоин в Царствии Небесном сидеть одесную Учителя — хитрый Иуда каждому указывает на его первенство. А потом на вопрос, как он все-таки думает по совести, с гордостью отвечает: «Конечно, я!» Наутро он идёт к первосвященнику Анне, предлагая предать суду Назорея. Анна прекрасно осведомлён о репутации Иуды и гонит его прочь несколько дней подряд; но, опасаясь бунта и вмешательства римских властей, с презрением предлагает Иуде за жизнь Учителя тридцать сребреников. Иуда возмущён: «Вы не понимаете, что вам продают! Он добр, он исцеляет больных, он любим бедняками! Эта цена — выходит, что за каплю крови вы даёте всего пол-обола, за каплю пота — четверть обола… А Его крики? А стоны? А сердце, уста, глаза? Вы меня хотите ограбить!» — «Тогда ты не получишь ничего». Услышав столь неожиданный отказ, Иуда преображается: он никому не должен уступить права на жизнь Христа, а ведь наверняка найдётся негодяй, готовый Его предать за обол или два…
Лаской окружает Иуда Того, Кого предал, в последние часы. Ласков и услужлив он и с апостолами: ничто не должно помешать замыслу, благодаря которому имя Иуды навсегда будет в памяти людей называться вместе с именем Иисуса! В Гефсиманском саду он целует Христа с такой мучительной нежностью и тоской, что, будь Иисус цветком, ни капли росы не упало б с Его лепестков, не колыхнулся бы он на тонком стебле от поцелуя Иуды. Шаг за шагом идёт Иуда по стопам Христа, не веря глазам, когда Его бьют, осуждают, ведут на Голгофу. Сгущается ночь… Что такое ночь? Восходит солнце… Что такое солнце? Никто не кричит: «Осанна!» Никто не защитил Христа с оружием, хотя он, Иуда, украл у римских солдат два меча и принёс их этим «верным ученикам»! Он один — до конца, до последнего вздоха — с Иисусом! Осуществляются ужас его и мечта. Искариот поднимается с колен у подножия Голгофского креста. Кто вырвет победу из его рук? Пусть все народы, все грядущие поколения притекут в эту минуту сюда — они обнаружат лишь позорный столб и мёртвое тело.
Иуда смотрит на землю. Какая она вдруг маленькая стала под его стопами! Не идёт больше время само по себе, ни спереди, ни сзади, но, послушное, движется всей своей громадой лишь вместе с Иудой, с его шагами по этой маленькой земле.
Он идёт в синедрион и бросает им в лицо, как властелин: «Я обманул вас! Он был невинен и чист! Вы убили безгрешного! Не Его предал Иуда, а вас, предал вечному позору!»
В этот день Иуда вещает как пророк, чего не смеют трусливые апостолы: «Я видел сегодня солнце — оно смотрело на землю с ужасом, вопрошая: „Где же здесь люди?“ Скорпионы, звери, камни — все вторили этому вопросу. Если сказать морю и горам, во сколько люди оценили Иисуса, они сойдут со своих мест и обрушатся на головы ваши!..»
«Кто из вас, — обращается Искариот к апостолам, — пойдёт со мною к Иисусу? Вы боитесь! Вы говорите, что на то была Его воля? Вы объясняете своё малодушие тем, что Он велел вам нести по земле Своё слово? Но кто поверит Его слову в ваших трусливых и неверных устах?»
Иуда «поднимается на гору и затягивает петлю на шее своей у всего мира на виду, довершая задуманное. По всему свету разлетается весть об Иуде-предателе. Не быстрее и не тише, но вместе со временем продолжает лететь эта весть…»
К Иисусу Христу, странствующему и просвещающему всех людей, прибился Иуда из Кариота. Ученики Христа, бывавшие в Иудее, говорили учителю о том, что Иуда – дурной человек, лжец и вор, бросивший жену и ссоривший всех вокруг себя. Но не стал слушать Иисус учеников и вопреки всем приблизил к себе Иуду. Поручил ему денежный ящик, все заботы о хозяйстве, покупке еды, одежды и подаяние милостыни нуждающимся.
Иуда из Кариота был не только грязен в помыслах, но и внешность имел отталкивающую. Рыжие волосы подчеркивали голову, будто разрубленную пополам, а после неудачно склеенную. Одна часть его лица была подвижной и живой, а другая восковая, без единой морщины и бельмом на весь незрячий глаз. А еще Иуда из Кариота врал, врал всем и про всех, делая это постоянно и непринужденно. И даже когда его уличали во лжи, он, смеясь, отмахивался, убеждая окружающих, что врут все, а он Иуда, в отличие от остальных делает это невинно и безобидно. Тут же сочинял очередную ложь. Врал даже о том, что он слаб, хотя обладал не дюжей силой, врал, что его мать была распутной, а отец был козлом или петухом. Ученики Иисуса Христа враждебно относились к Иуде, но поняв, что их учителя Иуда забавляет и он доверяет ему – сменили гнев на милость и душою приняли Иуду.
Иисус благосклонно относился к Иуде, всегда наблюдал за ним и справлялся об Иуде, когда долго не видел и обращался к нему ласково. Даже когда Иуду уличили в краже денег из вверенного ему денежного ящика, то Иисус встал на его защиту.
Отношение Иисуса к Иуде меняется после посещения селения в котором учение Христа не нашло поддержки. Жители хотели побить Иисуса, но Иуда стал кидаться на жителей, валяться у них в ногах и молить о пощаде, уверяя, что Иисус просто мошенник, любящий деньги и только за этим сюда пришедший. Жители с миром отпустили Иисуса с последователями, решив, что об Иисуса не стоит руки марать. С этого дня Иисус сильно отдалился от Иуды и Иуда это чувствовал.
Незадолго до посещения Иерусалима, Иуда совершает предписанное ему предательство. Сам идет к первосвященнику и предлагает ему сдать Иисуса. Долго оспаривает предложенное ему вознаграждение в 30 сребреников, но соглашается, так как думает, что кто-то другой пойдет на это и обогатится. В последние дни перед предательством Иуда окружает Иисуса трепетной заботой и старается угодить ему в мелочах.
В ночь, когда солдаты уводили Иисуса, Иуда крался за ними и надеялся, что сейчас все закончится, что солдаты поймут кто такой Иисус, ведь сам Иуда в глубине души веровал, что Иисус – земной сын Бога, и отпустят его. Этого не произошло. Смотря за тем, как избивают его учителя, Иуда не оставлял надежды, что сейчас все закончится. На Голгофе, когда Иисуса Христа прибивали к кресту, Иуда лег на землю и, не веря, что это происходит, молил о том, чтобы у Пилата, солдат и всех людей открылись глаза, и они увидели, что творят, что сына Божьего убивают.
На следующий день, после смерти учителя Иуда отправился к первосвященнику и каялся перед ним, что врал, что оболгал невиновного, крича, что они совершили непоправимую ошибку, убив Иисуса, громко рыдал и походил на безумного. Швырял в первосвященника и всех членов синедриона деньги, полученные за предательство. Уйдя от первосвященника, Иуда направился к ученикам Иисуса и обвинил их в трусости, что они не вступились за учителя, что не умерли за него и призвал их пойти за Христом в его царствие. Но ученики не поддержали его замысел, объяснив это тем, что некому будет нести учение Иисуса людям.
Одинокий Иуда Предатель взобрался на гору, влез на дерево и, связав из веревки узел, надел его на шею. Иуда спрыгнул со словами, что либо они с Иисусом вернутся на землю, обнявшись, как братья либо он идет в Ад ковать железо и разрушать небо Божье.
На рассвете люди, обнаружившие Иуду Предателя, вынули его из петли и бросили в глухой овраг, куда бросали мертвых коней и прочую падаль.
Сочинения
Особенности повести Л. Андреева «Иуда Искариот» Психология предательства в рассказе Леонида Андреева «Иуда Искариот» Своеобразие трактовки образа Иуды в повести Л. Андреева «Иуда Искариот» Анализ повести "Иуда Искариот" Андреева Л.Н. Исследование причин предательства в рассказе «Иуда Искариот» Обсуждение рассказа Леонида Андреева «Иуда Искариот»Христа предупреждали насчёт Иуды Искариота множество раз - но он их не слушал. Со временем, впрочем, ученики Христа привыкли к нему. Но не принимали его. Когда Иуда оказался прав в споре с Фомой - люди в селении оклеветали Иисуса, как только он ушёл - никто не вспомнил о его победе. А когда Иуда оказался сильнее Петра - Пётр попросил Иисуса о помощи, чтобы Иуда не был самым сильным. На ночлеге в этот же день Иуда задумал великое, и плакал всю ночь, восклицая, почему Иисус не любит его, ведь он так любит Иисуса. В другой день Иуда взял тайно три монеты, и ученики хотели его бить. Христос же сказал, пусть берёт Иуда денег сколько хочет, и принуждённо приняли это ученики.
И вот Искариот встретился с первосвященником Анной, продал Христа за 30 серебряников. Иуда спрятал деньги. А позже корчился в отхожем месте, долго плача, корчась, извиваясь.
В оставшееся время Искариот окружил учеников и Христа великой любовью. Хотя он и предал, всячески старался расстроить свой план, но попытки его были напрасны. В роковой вечер он пришёл к Иисусу. Он просил, говорил - я предам тебя! Скажи мне не предавать, остаться! Молчание было ответом.
Вечером предательства Иуда сказал ученикам готовить мечи и ушёл. Но когда он предал Христа, ученики убежали. Всё время до казни Иуда вопрошал: «Сейчас они поймут, кого теряют, и защитят, спасут Иисуса». Никто не спасал. Тогда Искариот стал уговаривать учеников спасти Иисуса. Но ему отказали. И вот Христос умер.
Искариот пришёл к первосвященнику. Сказал, что он предал не Иисуса, а всех людей, лишив их святого, а 30 серебряников - цена их лживой крови, но его не услышали. Пришёл к ученикам, спросил - кто с Иудой к Христу? Ученики отшатнулись. И повесился Иуда, свершился его замысел - навеки теперь имена Иуды и Христа связаны.
Чему учит этот рассказ? Любовь изменчива, и явная верность может быть слабее скрытой, а тот, кто лжив и неприятен на вид, может проникнуть вглубь вещей и полюбить сильнее того, кто в мирное время добр и шутлив, а в минуту опасности - изменчив, бесхребетен, слаб. Стоит помнить Иуду Искариота.
Картинка или рисунок Иуда Искариот
Другие пересказы для читательского дневника
- Краткое содержание Алданов Чертов мост
- Краткое содержание Голем Густав Майринк
Роман повествует о необычных приключениях главного героя, который случайно перепутал свою шляпу со шляпой некоего Атанасиуса Перната. Тот жил в Праге и был реставратором и резчиком камня
- Краткое содержание Лиханов Лабиринт
Толику снится сон, будто он попал в лабораторию, где над людьми проводят эксперименты, и где его попытались задушить. Проснувшись он пересказывает его родителям и бабушке, на что последняя говорит, что это к беде.
- Краткое содержание сказки Финист - ясный сокол
Жил один крестьянин, и вскоре овдовел он. Осталось у него три дочери. Хозяйство было у мужика огромное, и надумал он взять в помощницы работницу. Однако, Марьюшка отговорила его, сказав, что будет помогать ему во всем. Вот трудится она от зари до зари
- Краткое содержание Чехов Лошадиная фамилия
У генерала в отставке Булдеева случается неприятность – сильно разболелся зуб. Его приказчик советует ему одного целителя, заговаривающего зубную боль. Но вот фамилию его вспомнить он никак не может, упомянув только, что фамилия эта лошадиная
Однажды весной я сидел в Мариинском парке и читал «Остров сокровищ» Стивенсона. Сестра Галя сидела рядом и тоже читала. Ее летняя шляпа с зелеными лентами, лежала на скамейке. Ветер шевелил ленты, Галя была близорукая, очень доверчивая, и вывести её из добродушного состояния было почти невозможно.
Утром прошел дождь, но сейчас над нами блистало чистое небо весны. Только с сирени слетали запоздалые капли дождя.
Девочка с бантами в волосах остановилась против нас и начала прыгать через веревочку. Она мне мешала читать. Я потряс сирень. Маленький дождь шумно посыпался на девочку и на Галю. Девочка показала мне язык и убежала, а Галя стряхнула с книги капли дождя и продолжала читать.
И вот в эту минуту я увидел человека, который надолго отравил меня мечтами о несбыточном моем будущем.
По аллее легко шел высокий гардемарин с загорелым спокойным лицом. Прямой черный палаш висел у него на лакированном поясе. Черные ленточки с бронзовыми якорями развевались от тихого ветра. Он был весь в черном. Только яркое золото нашивок оттеняло его строгую форму.
В сухопутном Киеве, где мы почти не видели моряков, это был пришелец из далекого легендарного мира крылатых кораблей, фрегата «Паллада», из мира всех океанов, морей, всех портовых городов, всех ветров и всех очарований, какие связаны были с живописным трудом мореплавателей. Старинный палаш с черным эфесом как будто появился в Мариинском парке со страниц Стивенсона.
Гардемарин прошел мимо, хрустя по песку. Я поднялся и пошел за ним. Галя по близорукости не заметила моего исчезновения.
Вся моя мечта о море воплотилась в этом человеке. Я часто воображал себе моря, туманные и золотые от вечернего штиля, далекие плаванья, когда весь мир сменяется, как быстрый калейдоскоп, за стеклами иллюминатора. Боже мой, если бы кто-нибудь догадался подарить мне хотя бы кусок окаменелой ржавчины, отбитой от старого якоря! Я бы хранил его, как драгоценность.
Гардемарин оглянулся. На черной ленточке его бескозырки я прочел загадочное слово: «Азимут». Позже я узнал, что так назывался учебный корабль Балтийского флота.
Я шел за ним по Елизаветинской улице, потом по Институтской и Николаевской. Гардемарин изящно и небрежно отдавал честь пехотным офицерам. Мне было стыдно перед ним за этих мешковатых киевских вояк.
Несколько раз гардемарин оглядывался, а на углу Меринговской остановился и подозвал меня.
— Мальчик, — спросил он насмешливо, — почему вы тащились за мной на буксире?
Я покраснел и ничего не ответил.
— Все ясно: он мечтает быть моряком, — догадался гардемарин, говоря почему-то обо мне в третьем лице.
— Я близорукий, — ответил я упавшим голосом. Гардемарин положил мне на плечо худую руку.
— Дойдем до Крещатика.
Мы пошли рядом. Я боялся поднять глаза и видел только начищенные до невероятного блеска крепкие ботинки гардемарина.
На Крещатике гардемарин зашел со мной в кофейную Семадени, заказал две порции фисташкового мороженого и два стакана воды. Нам подали мороженое на маленький трехногий столик из мрамора. Он был очень холодный и весь исписан цифрами: у Семадени собирались биржевые дельцы и подсчитывали на столиках свои прибыли и убытки.
Мы молча съели мороженое. Гардемарин достал из бумажника фотографию великолепного корвета с парусной оснасткой и широкой трубой и протянул мне.
— Возьмите на память. Это мой корабль. Я ходил на нем в Ливерпуль.
Он крепко пожал мне руку и ушел. Я посидел еще немного, пока на меня не начали оглядываться потные соседи в канотье. Тогда я неловко вышел и побежал в Мариинский парк. Скамейка была пуста. Галя ушла. Я догадался, что гардемарин меня пожалел, и впервые узнал, что жалость оставляет в душе горький осадок.
После этой встречи желание сделаться моряком мучило меня много лет. Я рвался к морю. Первый раз я видел его мельком в Новороссийске, куда ездил на несколько дней с отцом. Но этого было недостаточно.
Часами я просиживал над атласом, рассматривал побережья океанов, выискивал неизвестные приморские городки, мысы, острова, устья рек.
Я придумал сложную игру. Я составил длинный список пароходов со звучными именами: «Полярная звезда», «Вальтер Скотт», «Хинган», «Сириус». Список этот разбухал с каждым днем. Я был владельцем самого большого флота в мире.
Конечно, я сидел у себя в пароходной конторе, в дыму сигар, среди пестрых плакатов и расписаний. Широкие окна выходили, естественно, на набережную. Желтые мачты пароходов торчали около самых окон, а за стенами шумели добродушные вязы. Пароходный дым развязно влетал в окна, смешиваясь с запахом гнилого рассола и новеньких, веселых рогож.
Я придумал список удивительных рейсов для своих пароходов. Не было самого забытого уголка земли, куда бы они не заходили. Они посещали даже остров Тристан да-Кунью.
Я снимал пароходы с одного рейса и посылал на другой. Я следил за плаваньем своих кораблей и безошибочно знал, где сегодня «Адмирал Истомин», а где «Летучий голландец»: «Истомин» грузит бананы в Сингапуре, а «Летучий голландец» разгружает муку на Фарерских островах.
Для того чтобы руководить таким обширным пароходным предприятием, мне понадобилось много знаний. Я зачитывался путеводителями, судовыми справочниками и всем, что имело хотя бы отдаленное касательство к морю.
Тогда впервые я услышал от мамы слово «менингит».
— Он дойдет бог знает до чего со своими играми, — сказала однажды мама. — Как бы все это не кончилось менингитом.
Я слышал, что менингит — это болезнь мальчиков, которые слишком рано научились читать. Поэтому я только усмехнулся на мамины страхи.
Все окончилось тем, что родители решили поехать всей семьей на лето к морю.
Теперь я догадываюсь, что мама надеялась вылечить меня этой поездкой от чрезмерного увлечения морем. Она думала, что я буду, как это всегда бывает, разочарован от непосредственного столкновения с тем, к чему я так страстно стремился в мечтах. И она была права, но только отчасти.
Однажды мама торжественно объявила, что на днях мы на все лето уезжаем на Черное море, в маленький городок Геленджик, вблизи, Новороссийска.
Нельзя было, пожалуй, выбрать лучшего места, чем Геленджик, для того чтобы разочаровать меня в моем увлечении морем и югом.
Геленджик был тогда очень пыльным и жарким городком без всякой растительности. Вся зелень на много километров вокруг была уничтожена жестокими новороссийскими ветрами — норд-остами. Только колючие кусты держи-дерева и чахлая акация с желтыми сухими цветочками росли в палисадниках. От высоких гор тянуло зноем. В конце бухты дымил цементный завод.
Но геленджикская бухта была очень хороша. В прозрачной и теплой её воде плавали, как розовые и голубые цветы, большие медузы. На песчаном дне лежали пятнистые камбалы и пучеглазые бычки. Прибой выбрасывал на берег красные водоросли, гнилые поплавки-балберки от рыбачьих сетей и обкатанные волнами куски темно-зеленых бутылок.
Море после Геленджика не потеряло для меня своей прелести. Оно сделалось только более простым и тем самым более прекрасным, чем в моих нарядных мечтах.
В Геленджике я подружился с пожилым лодочником Анастасом. Он был грек, родом из города Воло. У него была новая парусная шлюпка, белая с красным килем и вымытым до седины решетчатым настилом.
Анастас катал на шлюпке дачников. Он славился ловкостью и хладнокровием, и мама иногда отпускала меня одного с Анастасом.
Однажды Анастас вышел со мной из бухты в открытое море. Я никогда не забуду того ужаса и восторга, какие я испытал, когда парус, надувшись, накренил шлюпку так низко, что вода понеслась на уровне борта. Шумящие огромные валы покатились навстречу, просвечивая зеленью и -
;обдавая лицо соленой пылью.
Я схватился за ванты, мне хотелось обратно на берег, но Анастас, зажав трубку зубами, что-то мурлыкал, а потом спросил:
— Почем твоя мама отдала за эти чувяки? Ай, хороши чувяки!
Он кивнул на мои мягкие кавказские туфли — чувяки. Ноги мои дрожали. Я ничего не ответил. Анастас зев нул и сказал:
— Ничего! Маленький душ, теплый душ. Обедать будешь с аппетитом. Не надо будет просить — скушай за папу-маму!
Он небрежно и уверенно повернул шлюпку. Она зачерпнула воду, и мы помчались в бухту, ныряя и выскакивая на гребни волн. Они уходили из-под кормы с грозным шумом. Сердце у меня падало и обмирало.
Неожиданно Анастас запел. Я перестал дрожать и с недоумением слушал эту песню:
От Батума до Сухума -Ай-вай-вай!
От Сухума до Батума -Ай-вай-вай!
Бежал мальчик, тащил ящик -Ай-вай-вай!
Упал мальчик, разбил ящик -Ай-вай-вай!
Под эту песню мы спустили парус и с разгона быстро подошли к пристани, где ждала бледная мама. Анастас поднял меня на руки, поставил на пристань и сказал:
— Теперь он у вас соленый, мадам. Уже имеет к морю привычку.
Однажды отец нанял линейку, и мы поехали из Геленджика на Михайловский перевал.
Сначала щебенчатая дорога шла по склону голых и пыльных гор. Мы проезжали мосты через овраги, где не было ни капли воды. На горах весь день лежали, зацепившись за вершины, одни и те же облака из серой сухой ваты.
Мне хотелось пить. Рыжий извозчик-казак оборачивался и говорил, чтобы я повременил до перевала — там я напьюсь вкусной и холодной воды. Но я не верил извозчику. Сухость гор и отсутствие воды пугали меня. Я с тоской смотрел на темную и свежую полоску моря. Из него нельзя было напиться, но, по крайней мере, можно било выкупаться в его прохладной воде.
Дорога подымалась все выше. Вдруг в лицо нам потянуло свежестью.
— Самый перевал! — сказал извозчик, остановил лошадей, слез и подложил под колеса железные тормоза.
С гребня горы мы увидели огромные и густые леса. Они волнами тянулись по горам до горизонта. Кое-где из зелени торчали красные гранитные утесы, а вдали я увидел вершину, горевшую льдом и снегом.
— Норд-ост сюда не достигает, — сказал извозчик. — Тут рай!
Линейка начала спускаться. Тотчас густая тень накрыла нас. Мы услышали в непролазной чаще деревьев журчание воды, свист птиц и шелест листвы, взволнованной полуденным ветром.
Чем ниже мы спускались, тем гуще делался лес и тенистее Дорога. Прозрачный ручей уже бежал по её обочине. Он перемывал разноцветные камни, задевал своей струей лиловые цветы и заставлял их кланяться и дрожать, но не мог оторвать от каменистой земли и унести с собою вниз, в ущелье.
Мама набрала воды из ручья в кружку и дала мне напиться. Вода была такая холодная, что кружка тотчас покрылась потом.
— Пахнет озоном, — сказал отец.
Я глубоко вздохнул. Я не знал, чем пахло вокруг, но мае казалось, что меня завалили ворохом веток, смоченных душистым дождем.
Лианы цеплялись за наши головы. И то тут, то там на откосах дороги высовывался из-под камня какой-нибудь мохнатый цветок и с любопытством смотрел на нашу линейку и на серых лошадей, задравших головы и выступавших торжественно, как на параде, чтобы не сорваться вскачь и не раскатить линейку.
— Вон ящерица! — сказала мама. Где?
— Вон там. Видишь орешник? А налево — красный камень в траве. Смотри выше. Видишь желтый венчик? Это азалия. Чуть правее азалии, на поваленном буке, около самого корня. Вон, видишь, такой мохнатый рыжий корень в сухой земле и каких-то крошечных синих цветах? Так вот рядом с ним.
Я увидел ящерицу. Но пока я её нашел, я проделал чудесное путешествие по орешнику, красному камню, цветку азалии и поваленному буку.
«Так вот он какой, Кавказ!» — подумал я.
— Тут рай! — повторил извозчик, сворачивая с шоссе на травянистую узкую просеку в лесу. — Сейчас распряжем коней, будем купаться.
Мы въехали в такую чащу и ветки так били нас по лицу, что пришлось остановить лошадей, слезть с линейки и идти дальше пешком. Линейка медленно ехала следом за нами.
Мы вышли на поляну в зеленом ущелье. Как белые острова, стояли в сочной траве толпы высоких одуванчиков. Под густыми буками мы увидели старый пустой сарай. Он стоял на берегу шумной горной речонки. Она туго переливала через камни прозрачную воду, шипела и уволакивала вместе с водой множество воздушных пузырей.
Пока извозчик распрягал и ходил с отцом за хворостом для костра, мы умылись в реке. Лица наши после умывания горели жаром.
Мы хотели тотчас идти вверх по реке, но мама расстелила на траве скатерть, достала провизию и сказала, что, пока мы не поедим, она никуда нас не пустит.
Я, давясь, съел бутерброды с ветчиной и холодную рисовую кашу с изюмом, но оказалось, что я совершенно напрасно торопился — упрямый медный чайник никак не хотел закипать на костре. Должно быть, потому, что вода из речушки была совершенно ледяная.
Потом чайник вскипел так неожиданно и бурно, что залил костер. Мы напились крепкого чая и начали торопить отца, чтобы идти в лес. Извозчик сказал, что надо быть настороже, потому что в лесу много диких кабанов. Он объяснил нам, что если мы увидим вырытые в земле маленькие ямы, то это и есть места, где кабаны спят по ночам.
Мама заволновалась — идти с нами она не могла, у нее была одышка, — но извозчик успокоил её, заметив, что кабана нужно нарочно раздразнить, чтобы он бросился на человека.
Мы ушли вверх по реке. Мы продирались сквозь чащу, поминутно останавливались и звали друг друга, чтобы показать гранитные бассейны, выбитые рекой, — в них синими искрами проносилась форель, — огромных зеленых жуков с длинными усами, пенистые ворчливые водопады, хвощи выше нашего роста, заросли лесной анемоны и полянки с пионами.
Боря наткнулся на маленькую пыльную яму, похожую на детскую ванну. Мы осторожно обошли её. Очевидно, это было место ночевки дикого кабана.
Отец ушел вперед. Он начал звать нас. Мы пробрались к нему сквозь крушину, обходя огромные мшистые валуны.
Отец стоял около странного сооружения, заросшего ежевикой. Четыре гладко обтесанных исполинских камня были накрыты, как крышей, пятым обтесанным камнем. Получался каменный дом. В одном из боковых камней было пробито отверстие, но такое маленькое, что даже я не мог в него пролезть. Вокруг было несколько таких каменных построек.
— Это долмены, — сказал отец. — Древние могильники скифов. А может быть, это вовсе и не могильники. До сих пор ученые не могут узнать, кто, для чего и как строил эти долмены.
Я был уверен, что долмены — это жилища давно вымерших карликовых людей. Но я не сказал об этом отцу, так как с нами был Боря: он поднял бы меня на смех.
В Геленджик мы возвращались совершенно сожженные солнцем, пьяные от усталости и лесного воздуха. Я уснул и сквозь сон почувствовал, как на меня дохнуло жаром, и услышал отдаленный ропот моря.
С тех пор я сделался в своем воображении владельцем еще одной великолепной страны — Кавказа. Началось увлечение Лермонтовым, абреками, Шамилем. Мама опять встревожилась.
Сейчас, в зрелом возрасте, я с благодарностью вспоминаю о детских своих увлечениях. Они научили меня многому.
Но я был совсем не похож на захлебывающихся слюной от волнения шумных и увлекающихся мальчиков, никому не дающих покоя. Наоборот, я был очень застенчивый и со своими увлечениями ни к кому не приставал.