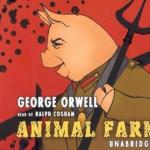БЕРГСОН
БЕРГСОН (Bergson) Анри (1859-1941) - французский философ, возродивший традиции классической метафизики, один из основоположников гуманитарно-антропологического направления западной философии. Представитель интуитивизма, эволюционистского спиритуализма и ‘философии жизни’. Испытал влияние идей неоплатонизма, христианского мистицизма, Спинозы и Гегеля (см. Творческая эволюция), психоанализа и психоаналитически ориентированных учений. Образование получил в Лицее Кондорсе в Париже, затем в 1878-1881 в Высшем педагогическом институте. Преподавал в различных лицеях в Арье и Клермон-Ферране. Доктор философии (1889) по двум диссертациям: ‘Опыт о непосредственных данных сознания’, ‘Идея места у Аристотеля’ (на лат. языке). С 1897 - профессор философии Высшей педагогической школы. Профессор Коллеж де Франс (1900-1914). Член Академии моральных и политических наук (1901), ее президент (с 1914). Член Французской Академии наук (1914), лауреат Нобелевской премии по литературе (1927). В 1911-1915 читал курсы лекций в США, Англии и Испании. Первый президент (с 1922) Комиссии Лиги наций по интеллектуальному сотрудничеству (будущая ЮНЕСКО). Во время Второй мировой войны правительство Виши предложило Б. не проходить обязательную для евреев процедуру регистрации, он ответил отказом. Умер в оккупированном нацистами Париже. Основные работы: ‘Опыт о непосредственных данных сознания’ (1889), ‘Материя и память’ (1896), ‘Смех. Очерки о значении комического’ (1900), ‘Введение в метафизику’ (1903), ‘Творческая эволюция’ (1907), ‘Восприятие изменчивости’ (1911), ‘Сновидения’ (1914), ‘Духовная энергия’ (сборник выступлений, 1919), ‘Длительность и одновременность. По поводу теории относительности Эйнштейна’ (1922), ‘Два источника морали и религии’ (1932), ‘Мысль и движущееся’ (сборник выступлений, 1934) и др. Все труды Б. вносились католической церковью в Индекс запрещенных книг. Характеризуя правила философского метода, в роли которого у него выступала интуиция, Б. подчеркивает: проверка на истинность либо ложность должна относиться к самим проблемам.
Ложные проблемы подлежат элиминированию из сферы размышлений - соответствие истины и творчества должно достигаться на уровне постановки проблем. По Б., ‘правда в том, что для философии, да и не только для нее, речь идет, скорее о нахождении проблемы и, следовательно, о ее формулировке, чем о решении. Ибо спекулятивная проблема разрешается, как только она соответствующим образом поставлена. Под этим я имею в виду, что тогда ее решение существует, хотя и может оставаться спрятанным или, так сказать, скрытым: единственное, что остается сделать, так это открыть его. Но постановка проблемы - не просто открытие, это - изобретение. Открытие должно иметь дело с тем, что уже существует - актуально или виртуально; значит, рано или поздно оно определенным образом должно произойти. Изобретение же наделяет бытием то, чего на самом деле не существует; оно могло бы никогда не произойти. Уже в математике, а еще более в метафизике, изобретательское усилие чаще всего состоит в порождении проблемы, в созидании терминов, в каких она будет ставиться. Итак, постановка и решение проблемы весьма близки к тому, чтобы уравняться: подлинно великие проблемы выдвигаются только тогда, когда они разрешимы’. Естественно, истина и ложь трудно разводимы в ходе собственно постановки проблем, поэтому, как позднее отметил Делез, ‘крупное достижение Бергсона состоит в попытке изнутри определить, что такое ложь в выражении ложная проблема’. Согласно Б., ‘ложные проблемы’ бывают двух видов: 1) ‘несуществующие проблемы’, в самих терминах которых содержится путаница между ‘большим’ и ‘меньшим’; 2) ‘плохо поставленные проблемы’, термины которых являют собой плохо проанализированные ‘композиты’ (пакетные понятия, являющие собой качественно разнородные ‘смеси’). В первом случае, например, игнорируется то, что идея беспорядка больше идеи порядка, ибо в ней присутствует идея порядка плюс ее отрицание, плюс мотив такого отрицания (когда мы сталкиваемся с порядком, не являющимся тем порядком, какого ожидаем). По мысли Бергсона, бытие, порядок или существующее истинны сами по себе; но в ложной проблеме присутствует фундаментальная иллюзия, некое ‘движение истины вспять’, согласно которому предполагается, что бытие, порядок и существующее предшествуют сами себе или же предшествуют полагающему их творческому акту, проецируя образ самих себя назад в возможность, в беспорядок и в небытие, считающиеся изначальными. Для иллюстрации ‘несуществующих проблем’ Б. приводит пример проблемы небытия, беспорядка и возможного (проблемы знания и бытия): по его мысли, содержание идеи небытия не меньше, а больше содержания идеи бытия, содержание идеи беспорядка не меньше, а больше содержания идеи порядка, содержание возможного не меньше, а больше содержания реального. Мотивирует данный пример Б. тем, что в идее небытия фактически содержится идея бытия, плюс логическая операция обобщенного отрицания, плюс особый психологический мотив для такой операции (когда, в частности, бытие не соответствует нашему ожиданию, и мы постигаем его только как нехватку, как отсутствие того, что нас интересует). Идея же возможного больше, нежели идея реального, ибо, по Б., возможное - это только реальное с добавлением действия разума, который отбрасывает в прошлое образ реального сразу, лишь только тот имел место, а также мотив такого действия (когда возникновение реального во Вселенной мы смешиваем с последовательностью состояний в закрытой системе). Кроме ситуаций, в каких большее принимается за меньшее, Б. анализирует и обратные случаи. Так, по его мысли, сомнение относительно действия лишь внешним образом добавляется к этому действию, в действительности же речь может идти о половинчатости воли: отрицание не добавляется к тому, что оно отрицает, а лишь свидетельствует о слабости того, кто отрицает. Согласно Б., ‘мы чувствуем, что божественно сотворенные воля и мысль слишком полны в себе, полны в безмерности собственной реальности, чтобы нести даже намек на идею нехватки порядка или нехватки бытия. Вообразить возможность абсолютного беспорядка, а еще более, повод для небытия, было бы для таких воли и мысли все равно, что сказать себе, будто они могли бы вовсе не существовать, и это было бы слабостью несовместимой с их природой, которая есть сила... Это - не что-то большее, а что-то меньшее; это - дефицит-воли’. По мысли Б., ‘плохо поставленные проблемы’ характеризуются тем, что в их рамках произвольно группируются различные по природе своей вещи. (Так, Б. не считает корректным вопрос ‘сводимо ли счастье к удовольствию?’, полагая, что термин ‘удовольствие’ вполне может соотноситься с крайне разнообразными и несводимыми друг к другу состояниями, являющими собой лишь нечто подобное на идею счастья.) В данном контексте существенно то, как позднее отмечал Делез (см. ’Бергсонизм’ (Делез
)), что Бергсон осуждает в ‘несуществующих’ проблемах навязчивое стремление (во всех его проявлениях) мыслить в терминах большего и меньшего. Эта ‘иллюзия’ нашего разума - вслед за Кантом - принимается Б. за неустранимую: по его мысли, интеллект - это способность ставить проблемы вообще (инстинкт же - это, скорее, способность отыскивать решения). Но только интуиция у Б. осуществляет выбор между истинным и ложным в возникающих проблемах, даже если в итоге интеллект вынуждается обернуться против самого себя. С точки зрения Б., не менее важным правилом философского метода выступает также необходимость переоткрывать истинные ‘различия по природе’, или ‘сочленения реального’. По мысли Б., интуиция и призвана разделять элементы, различающиеся но природе (ибо реальный опыт ничего, кроме композитов нам предложить не в состоянии). Так, если время превращается в представление, пронизанное пространством, то возникает вопрос, как в подобной ре-презентации разграничить две ее составляющие, различные по природе, - два чистых наличия (презентации): протяженности и времени. По Б., ‘мы усматриваем лишь различия в степени там, где наличествуют различия по природе’. Так традиционная метафизика, согласно Б., видит только различия в степени между опространствленным временем и вечностью, которую она полагает изначальной (время в таком контексте есть вырождение или деградация бытия): соответственно, все существа иерархизируются по шкале интенсивности - между полюсами ничто и совершенства. Осмысливая, в частности, в границах этого подхода сущность человеческого восприятия, Б. формулирует следующее: ‘Если живые существа образуют во вселенной ‘центры индетерминации’ и если степень этой индетерминации измеряется числом и совершенством их функций, то вполне вероятно, что уже одно наличие этих живых существ может быть равносильно исключению, или затемнению тех сторон предметов, которые к этим функциям не имеют отношения’. Иными словами, восприятие не есть ‘объект плюс нечто’, восприятие - это ‘объект минус все, что нас на самом деле не интересует’; с точки зрения Б., мы воспринимаем вещи там, где они находятся, восприятие сразу помещает нас в материю, восприятие безлично и совпадает с воспринимаемым объектом. Бергсоновская интуиция таким образом направлена на постижение условий реального опыта: необходимо ‘взять опыт в его истоках или, скорее, выше того решающего поворота, где, отклоняясь в направлении нашей пользы, он становится чисто человеческим опытом’. (Согласно Б., ‘философии следовало бы совершить усилие, чтобы выйти за пределы человеческих условий’: ибо ‘наши условия’ и сами являют собой плохо отрефлексированные композиты, и вынуждают жить в окружении последних.) Также крайне важным полагал Б. то, что ‘вопросы, касающиеся субъекта и объекта, их различия и их соединения, должны быть поставлены скорее в зависимости от времени, чем от пространства’. Б. объясняет это так: ‘длительность’ вмещает в себя ‘различия по природе’ и несет их все (ибо наделена способностью сама по себе качественно изменяться): в ее аспекте вещь отлична по природе от всех других и от самой себя (изменение); пространство же не представляет ничего кроме ‘различий в степени’ (ибо количественно однородно): в его аспекте вещь отлична лишь по степени от других вещей и от самой себя (увеличение, уменьшение). Посредством длительности, с которой я имею дело (формула Б.: ‘я должен ждать, пока сахар не растворится’), обнаруживаются и иные длительности, пульсирующие в принципиально иных ритмах и отличные по природе от моей длительности. Именно посредством осмысления того, как вещи качественно варьируются во времени, оказывается возможным уяснение их подлинной сущности. Интуиция как метод вырастает из ‘длительности’: согласно Б. (‘Мысль и движущееся’), ‘размышления относительно длительности, как мне кажется, стали решающими. Шаг за шагом они вынуждали меня возводить интуицию до уровня философского метода’. Как в ином фрагменте (‘Разум и материя’) Б. отмечает: ‘Лишь обсуждаемый нами метод позволяет выйти за пределы как идеализма, так и реализма, утвердить существование объектов как подчиненных нам, так и верховодящих нами /т.е. ‘различных по природе’ - А.Г./, но тем не менее, в определенном смысле, внутренних для нас... Мы воспринимаем любое число длительностей, и все они крайне отличаются друг от друга’. Как полагал Б., хотя идея однородного пространства предполагает нечто искусственное, отделяющее человека от реальности, именно в этом смысле материя и протяженность оказываются реальностями, предзадающими порядок пространства. Последнее укоренено, по Б., не только в человеческой природе, но и в природе вещей: материя суть ‘аспект’, посредством которого вещи стремятся представлять друг в друге и в нас только ‘различия в степени’. Такая ситуация означает конституирование такого положения вещей, когда ‘различия по природе’ в принципе не могут быть зафиксированы. Как позже отмечал Делез, у Б. ‘попятное движение истины - не только иллюзия относительно истины, но оно принадлежит самой истине... Иллюзия берет свое начало не в одной только нашей природе, но и в мире, где мы живем, на той стороне бытия, которая в первую очередь указывает на себя’. В зрелый период философского творчества (‘Мышление и движущееся’) Б. пришел к выводу, что Абсолют имеет две стороны: дух, пронизанный метафизикой, и материю, познаваемую наукой. Наука, по Б., оказывается одной из двух компонентов онтологии. В работе ‘Опыт о непосредственных данных сознания’ Б. объясняет различие между сознанием и протяженностью. Физическая наука (например, у Декарта) есть познание бытия как пространственного протяжения, в котором мы можем определить отношения частей мира друг к другу - в геометрическом смысле и в соответствии с фиксированными причинными законами. Материя, которая, по мысли Б., вполне реальна, лучше всего описывается физикой. Однако жизнь отлична от материи, и человек сознает это непосредственно, в самом себе. Согласно Б., ‘сознание есть неделимый процесс’, его ‘части взаимно пронизывают друг друга’. Сам человек - существо, обладающее памятью, и поэтому он не находится во власти действующего в данный момент сиюминутного импульса. Прошлое не предопределяет настоящее, ибо человек самопроизвольно меняется в настоящем и потому свободен. Человеческий опыт Б. полагал применимым ко всему живому. Разделяя посылки философского спиритуализма о том, что человек есть дух, что духовность - единственный подлинно человеческий вид активности людей, в ходе которой они продуцируют смысл вещей, Б. отстаивал идею безусловного наличия физического тела и материального универсума. (По Б., создание позитивной метафизики достижимо на фундаменте чистой психологии.) Духовное у Б. нематериально лишь в том понимании, что оно - перманентно воспроизводимая творческая энергия, генерирующаяся при этом в реальных условиях. Полемизируя с эволюционизмом Спенсера, Б. подчеркивал, что материальным вещам приложимо свойство пространственности, временная же длительность - удел сознания. Вне последнего не может быть ни прошлого, ни будущего, ни скрепляющего их настоящего. (В отличие от Канта, для Б. время - не априорная форма внутреннего созерцания, но само содержание внутреннего чувства, созерцания ‘я’; непосредственный факт сознания, постигаемый внутренним опытом.) По Б., ‘,..в сознании случаются события неразделимые, в пространстве одновременные события различимы, но без последовательности в том смысле, что одно не существует после появления другого. Вне нас есть взаиморасположенность без преемственности, внутри нас есть преемственность без внешней рядоположенности’. Именно этим тезисом Б., в частности, обосновывает собственный взгляд на сознание, оказывающийся противопоставленным установкам детерминизма. Жизнь сознания, согласно Б., неразложима на дискретные составляющие. Предсказания невозможны в той области, где явления могут быть тождественны исключительно сами себе. Репертуары нашей активности обусловливаются только нами самими, какими мы являемся, какими мы осуществились. Свобода людей - модус совпадения их поступков с их персональностью, с их личным началом. Сознание, по мнению Б., не может трактоваться как вещь в ряду вещей: ‘Я нерушимо, когда чувствует себя свободным в непосредственно данном... Доказать собственную свободу оно не может иначе, чем посредством пространственных рефракций... Механистический символизм не в состоянии ни подтвердить, ни опровергнуть принцип свободной воли’. Анализируя взаимосвязи и взаимопереходы двух видов реальности (духа и материи) в контексте проблемы рассмотрения мысли как функции мозга, а сознания - в качестве эпифеномена церебральной деятельности, Б. отвергал обе традиционалистские крайности трактовки данного вопроса. Мозговые функции, по Б., не в состоянии объяснить значимую совокупность феноменов сознания человека. Память у Б. идентична сознанию, но последнее включает в себя мириады того, чего никогда не будет в состоянии адаптировать и постичь наш мозг. Травмы мозга разрушают не столько сознание, сколько механизмы его сцепления с реальностью. Тело действует на предметы внешнего мира, опираясь на прошлый опыт, на ‘образы объектов’ (этот процесс Б. обозначает понятием ‘перцепция’). В любое действие в настоящем времени вплавлено определенное прошлое. (По убеждению Б., ‘...мысль, приносящая в мир нечто новое, вынуждена проявляться через посредство уже готовых идей, которые она встречает и вовлекает в свое движение; потому и кажется, что она связана с эпохой, в которую жил философ. Но часто это всего лишь видимость. Философ мог явиться многими веками раньше; он имел бы дело с иной философией и иной наукой; он поставил бы другие проблемы; он иначе формулировал бы свои мысли; возможно, ни одна глава из книг, которые он написал, не была бы той же; и все-таки он сказал бы то же самое’.) Память, трансформируясь, ‘схватывает’ прошлую жизнь человека в ее тотальности, ‘перцепция’ выступает как процесс постоянного выбора и отбора, укорененного в его настоящем, сегодняшнем бытии. Так перцепция очерчивает границы сознанию, одновременно вытесняясь в его резервуары. В границах такого подхода Б. исследовал проблемы динамической природы времени, ‘длительности’ восприятия, ‘подпочвы сознания’, сознания, ‘сверхсознания’, бессознательного, памяти, интуиции, сновидений, сопереживания, развития, познания, творчества, свободы и др. Решая одну из базовых для 20 в. интеллектуальных проблем об истинном соотношении философии и науки, Б. опирался на ряд спекулятивных несущих конструкций: концепцию ‘творческой эволюции’, идею ‘жизненного порыва’, а также на трактовку интуиции как инструмента прямого контакта с вещами и сущностью жизни как длительности. Существенным вкладом Б. в философию была его концепция познания. Интеллектуальные способности человека представляют собой, по Б., успешную адаптацию к миру в той степени, в какой мир является упорядоченной, законосообразной системой причин и следствий. Интеллект - это инструмент, помогающий нам справиться с реальностью; он сформировался, потому что был полезен для успешной деятельности. Многочисленные достижения науки, благодаря которым природа была поставлена на службу человечеству, свидетельствуют об этой практической функции разума. Но в ходе эволюционного процесса развилась и другая способность, содействующая успешной адаптации. Важнейшую роль в царстве животных выполняет инстинкт. Это также полезное знание, но оно существенно отличается как процесс от процедур интеллектуального рассуждения. Инстинкт позволяет постичь важные для жизни вещи безо всякого научения или интеллектуальных операций. Инстинктивный разум, как полагал Б., является необходимым дополнением к научному познанию. Он позволяет человеку жить, понимая других людей и жизнь в целом. Способность инстинктивного постижения присуща всем людям, поскольку она есть всего лишь проявление на новом уровне того, что было достигнуто ранее в эволюционной истории живых существ. Б. называет эту способность и знание, которое удается получить с ее помощью, ‘интуицией’. Идея ‘первичной интуиции’ у Б. отражает его идею ‘длительности’ (франц. durée - дление) - психологического, субъективного времени, которое нетождественно статичному времени научного познания и которое предполагает взаимопроникновение прошлого и настоящего, различных состояний сознания, перманентное становление новых форм внутренней жизни. В последней, по мнению Б., ‘нет ни окоченелого, неподвижного субстрата, ни различных состояний, которые бы проходили по нему, как актеры по сцене. Есть просто непрерывная мелодия... которая тянется, как неделимая, от начала до конца нашего сознательного существования’. ‘Длительность’, образующая ‘ткань психологии жизни’, и задает, согласно Б., духовное своеобразие индивидов. В отличие от традиционных подходов рационалистического типа, стремящихся реконструировать репертуары познающего сознания и логического мышления, Б. ориентировался на прояснение многомерной модели сознания: от внешних, интеллектуальных, обслуживающих практические социальные потребности слоев, до внутренних, дорефлексивных, недеформированных воздействием интеллекта и языка. (Противопоставляя на протяжении всего своего творчества научного наблюдателя философскому персонажу, который ‘проходит’ сквозь ‘длительность’, Б. стремился подчеркнуть, что именно первый из них порождает второго - не только в физике Ньютона, но и в физике относительности Эйнштейна.) Согласно Б., и философия рационализма, и ассоциативная психология, и психофизика, интерепретирующие сознание как последовательность рядоположенных состояний, параметры которой могут быть охарактеризованы посредством количественных методик, не в состоянии описать человеческую субъективность. Резкое разведение Б. ‘длительности’ и пространства; отвержение Б. принципа психологического детерминизма, постулирующего существование в сознании взаимообусловливающих друг друга состояний и противоречащего возможности свободы; критика Б. доктрины психофизиологического параллелизма; четкое различие, отмеченное Б. между временем, как параметром физического описания реальности, как одной из координат движущейся точки и временем, как мерой и величиной жизни человека, в значимой мере обусловили пафос феноменологии Гуссерля, утверждавшего, что именно представители его философской школы выступают ‘подлинными и последовательными бергсонианцами’. Отвергая классический догмат о субстанциальности сознания (‘...есть изменения, но нет меняющихся вещей: изменчивость не нуждается в подпоре... Изменчивость довлеет самой себе, она и есть сама вещь... Нигде субстанциальность изменчивости так не видна, так не ощутима, как в области внутренней жизни’), Б. стремился создать теорию субстанции принципиально нового характера, принципиально индетерминистскую концепцию сознания, единство которого достигается самой его временностью, постоянным ‘интегрирующим’ влиянием настоящего и прошлого, стягивающим в единое целое его разнообразные состояния. Применительно к сознанию как процессу, по Б., ни в какой момент времени невозможно вычленить что-либо устойчивое: ‘Отношение внутренней причинности - есть чисто динамическое отношение и не имеет ничего общего с отношением двух явлений, друг друга обусловливающих. Ибо эти последние, будучи способны воспроизводиться в однородном пространстве, укладываются в закон, между тем как глубокие психологические акты даются раз сознанию и больше не появляются’. Отвергая существование в сфере духовной жизни законов (в отличие от непосредственных фактов), Б. подчеркивал, что поскольку исключено предвидение будущего, означающее, в свою очередь, принципиальную невозможность знаний либо предположений о возможном, постольку возможное не существует в принципе - оно выступает как ретроспективная оценка, сформулированная ‘после того, как’ (‘возможное - мираж настоящего в прошлом...’). Первичным, неопределимым фактом сознания Б. полагал свободу (‘свобода есть факт, и среди всех констатируемых фактов она наиболее ясный... всякое определение свободы оправдывает детерминизм...’). Индивид свободен, по Б., изначально: по сути, ‘длительность’ и свобода для Б. синонимичны - они не доступны ни интеллекту, ни работе мышления. Теория сознания Б. была дополнена им сопряженной концепцией социальных ценностей. Трактуя мораль как продукт либо ‘общественного прессинга’ либо ‘любовного порыва’, Б. подчеркивал, что в первом случае (‘статическая мораль’) человек являет собой элемент некоего механизма и, действуя соответственно, порождает для себя ‘закрытую’ (авторитарную и националистическую) модель общества - продукт эволюционного круговорота, к которому неприложимы категории прогресса и возможности продвижения ‘жизненного порыва’. ‘Открытое’ же общество, пророками которого были, по Б., пророки Израиля, Сократ и Иисус Христос, основано на абсолютной морали творческой личности, на признании главной ценностью идеалов целостного человечества, на предельном динамизме общества и его институтов. По мнению Шелера, величие Б. заключалось ‘в той силе, с которой он сумел дать иное направление отношению человека к миру и душе. Новое отношение можно охарактеризовать как стремление полностью положиться на чувственные представления, в которых выступает содержание вещей; это новое отношение характеризуется как проникновение с глубоким доверием в непоколебимость всего ‘данного’, выступающего как нечто простое и очевидное; его позволительно квалифицировать также как мужественное саморастворение в созерцании и любовном стремлении к миру во всей его наглядности’. Бергсонианство выступило, безусловно, как одна из наиболее модных и рафинированных философских систем 20 в. (см. также БЕРГСОНИЗМ
(ДЕЛЕЗ
), ЖИЗНЕННЫЙ ПОРЫВ
, ТВОРЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
.)
История Философии: Энциклопедия. - Минск: Книжный Дом . А. А. Грицанов, Т. Г. Румянцева, М. А. Можейко . 2002 .
С именем Анри Бергсона (1859-1941) во французской философии связано многое и, прежде всего, обновление проблематики и методологии, произошедшее на рубеже XIX и XX веков и постепенно затронувшее многие области культуры. Философская деятельность Бергсона длилась более 50 лет и эти годы вобрали в себя смену способов мышления, переход к иной, чем прежде, философской модели сознания, мира, иному образу Вселенной. Исторически место Бергсона - между позитивизмом и экзистенциализмом.
Время, в котором существовала философия конца XIX - начала XX века, очень насыщено. В нём сопрягаются и рвутся различные философские традиции, происходят глубинные переломы в самом осмыслении традиционных для философии проблем, зарождается и развивается то новое видение мира, которое полностью выразит себя уже в XX веке. Наряду с целым рядом других мыслителей Бергсон стоит у истоков гуманитарно-антропологического направления западной философии. Это направление, стремясь выявить и понять сущностные характеристики бытия человека, своеобразие его позиции по отношению к миру, рисует и специфические черты мировосприятия человека именно XX века. Пересматривая и переоценивая классическое рационалистическое наследие, отказываясь от многих его основополагающих постулатов и установок, философия повернулась к проблемам человеческого существования в мире, заново осмыслила вопросы о времени, свободе, смысле жизни, ответственности, выборе, о способах ориентации человека в мире в эпоху крушения традиционных философских принципов и общезначимых ценностей. Бергсон разрабатывал во Франции своеобразный вариант философии жизни, во многом родственной концепциям Дильтея, Шпенглера, всей линии, связанной с философией Ф.Ницше, хотя сам он всегда отрицал свою принадлежность к какой-либо философской школе. Это течение развивало стиль философствования, исходивший из “переживания жизни”, которое открывает изначальную слитность индивида с общемировой жизненной силой и выявляет всю полноту и оригинальность человеческой личности.
Представители философии жизни не отказались от поиска некоторых абсолютных оснований организации мира и человеческой деятельности, которые прежде понимались как биологические, космические и др. В этом их точка соприкосновения с предшествующей философией, но теперь эти основания не носят прежнего рационального характера: это “жизнь”, “воля” как первичная реальность, целостный органический процесс, предшествующий разделению материи и духа, бытия и сознания. Осмысливая человека как часть этого творческого потока, порыва, философия открыла в его сознании множество новых пластов, неведомых чисто рационалистическому, дискурсивному объяснению, неподвластных социальным регуляциям и ограничениям. В концепциях представителей философии жизни эти общие установки проявлялись по-разному, в особых конкретных формах, и Бергсон занимает в этом ряду свое особое место.
Бергсон продолжил линию французской философии, которую условно можно назвать линией Паскаля - Руссо - французского спиритуализма XIX века. Отзвук паскалевского “познания сердцем” явственно слышится в концепции интуиции Бергсона, особенно когда рассматривается ее действие в моральной сфере. Как Руссо, Бергсон ищет “естественного человека”, способного действовать из полноты своих побуждений, искренне и свободно, а не по навязанным обществом правилам и стандартам, не подчиняясь устоявшимся стереотипам. Исходя из понимания проблемы, которую решал философ, из понимания вопроса, который он перед собой ставил, можно утверждать, что Бергсон унаследовал ее из французского спиритуализма, развивавшего концепцию “чистой психологии” с ее главным методом - внеинтеллектуальной рефлексией, непосредственно постигающей первичный факт сознания, который составляет фундамент всего человеческого знания. Задачей Бергсона было выявление и описание непосредственного отношения человека к миру как исходного, первичного в развертывании надстраивающихся над ним познавательных форм. Точкой отталкивания для Бергсона послужила философия Канта. При этом он обращает особое внимание на кантовскую идею связи субъективности, внутреннего чувства со временем.
“Первичная интуиция” Бергсона - идея длительности, того психологического субъективного времени, которое коренным образом отлично от статического времени науки и научного познания - математики, физики, механики. Бергсон теоретически исследовал и возвел в главный принцип своей философской системы тот известный всем факт, что время в разные периоды нашей жизни воспринимается нами по-разному: в начале и к концу жизни, в моменты нетерпения, спешки и в моменты отдыха. Главная характеристика этого времени, времени сознания - его неделимость и целостность; в нем невозможно выделить отдельные моменты. Длительность предполагает постоянное взаимопроникновение прошлого и настоящего, различных состояний сознания, постоянное творчество новых форм, развитие, становление. Как субъективное переживание времени, “ткань психологии жизни”, длительность определяет, по Бергсону, духовное своеобразие каждого индивида. “В области внутренней жизни нет ни окоченелого, неподвижного субстрата, ни различных состояний, которые бы проходили по нему, как актеры по сцене. Есть просто непрерывная мелодия внутренней жизни, которая тянется, как неделимая, от начала до конца нашего существования” .
В центре философских размышлений А. Бергсона, таким образом, оказалась проблема времени как основания человеческого бытия, истории и культуры. Философия в лице Бергсона обратилась к исследованию времени в том его аспекте, значение которого могло быть полностью осознано только на основе опыта, накопленного психологией, времени человеческого существования. Бергсон сумел выразить емким понятием длительности эти новые философские установки. Он осознал и положил в основу своего учения тот факт, что “время как элемент физического описания реальности, как одна из координат некоторой движущейся точки и время как определенного рода величина и мера человеческой жизни - не одно и то же время”, что это различные реальности, исследуемые на разных теоретических уровнях и разными методами.
От классической рационалистической традиции Бергсона отделяет иное представление о сознании, о функциях и границах деятельности интеллекта. Придавая огромное значение подходу Канта и традиции анализа “фактов сознания” Фихте, он отвергал предложенную ими трактовку сознания, полагая, что философствовать нужно не об идеях, а о конкретных фактах. Бергсон говорил, что у большинства людей уже давно ощущается потребность в философии более эмпирической, основанной на личном опыте, более близкой к непосредственно данному, чем это было в традиционной философии. И это направление взгляда, по его мнению, должно было выразиться в сближении между чистой философией и интроспективной (интроспекция - самонаблюдение) психологией.
В отличие от традиционного рационализма, который исследовал в основном познающее сознание и логическое мышление, Бергсон рассматривает иную модель - она включает в себя множество слоев и пластов, от поверхностных, интеллектуальных, подчиненных практическим социальным потребностям, псевдореальным и во многом внушенным индивидууму, до глубинных, дорефлексивных, не искаженных еще вмешательством размышлений над ними и обозначения их с помощью языка. Процесс сознания, понятого как длительность (как процесс - сказали бы мы сегодня), по мнению Бергсона, в сущности полностью внеинтеллектуален. Он может быть только “схвачен” непосредственно, усилием самонаблюдения, осознан и прочувствован в тот момент, когда происходит, и в том виде, в каком происходит. Но интеллекту, приспособленному к области абстрактного и статичного, он недоступен. Поэтому философия в нее прежней форме упускала из виду своеобразие и уникальность сознания, саму человеческую субъективность. Современная литература “потока сознания” в лице М. Пруста, Дж. Джойса, В.Вульф и других во многом опирается на бергсоновскую концепцию времени и памяти.
Бергсон не создал своей философской школы. Многие, испытавшие влияние его идей, мыслители не стали его последователями, а проложили свои самостоятельные пути в науке. Опирались на концепцию Бергсона создатели теории ноосферы П. Тейяр де Шарден и В.И. Вернадский, она вдохновляла У. Джемса, Ж. Сореля, А. Тойнби, разрабатывавших совершенно разные направления философских исследований - психологические проблемы, теорию анархо-синдикализма, социальную философию. Но дело здесь не в конкретных направлениях влияния, а в том, что учение Бергсона, будучи порождением определенного “духа эпохи”, следствием синтеза социокультурных, духовных и личностных предпосылок, воздействовало на духовную атмосферу последующего времени, изменило сам способ постановки и анализа философских проблем, повлияло на культурную ситуацию в целом. И сделало возможным появление новых культурных феноменов, причем не только в области философии.
1. Какой тип мировоззрения имеет характеристику абсолютного? В чем специфика «абсолютного мировоззрения» А. Шопенгауэра?
2. Насколько, по вашему мнению, философская картина мира А. Шопенгауэра отражает реальное существование вещей?
3. Какой пункт человеческого опыта предлагает А. Шопенгауэр в качестве критерия истинности знаний о реальности?
4. Перечислите и поясните основные теоретические положения этических воззрений А. Шопенгауэра.
5. Перечислите и поясните основные теоретические положения этических воззрений Ф. Ницше.
6. Расскажите об особенностях стиля философствования Ф. Ницше.
7. Разъясните смысловое содержание ницшеанских понятий «сверхчеловека» и «слабого».
8. Нравственность и безнравственность этики Ф. Ницше. В чем, по вашему мнению, Ф. Ницше остался неправильно понятым?
9. Что новое внес в понимание человека А. Бергсон по сравнению с предшествующей философской традицией?
10. Дайте определение интуиции, данное А. Бергсоном, и разъясните как вы его понимаете.
11. Расскажите каким образом А. Бергсон рассматривает проблему времени в качестве основания человеческого бытия.
Дополнительная литература
1. Асмус В.Ф. Историко-философские этюды. М., 1980.
2. Бергсон А. Собрание сочинений. В 4-х т.т. М.: Московский клуб, 1992.
3. Бергсон А. Творческая эволюция. М., 2001. 384 с.
4. Зелинский Ф.Ф. Фридрих Ницше и античность // Ницше Ф. Полн. собр. соч. Т. 1 . М., 1912.
5. Ницше Ф. Сочинения в 2 т.т. М.: Мысль, 1990.
6. Рассел Б. История западной философии в 2-х т. М., 1992. Т.2.
7. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. СПб., 1994. Т.4.
8. Введенский А. Очерк современной французской философии. Харьков, 1984.
9. Шопенгауэр А. Собрание сочинений в пяти томах. Том 1. М.: Московский клуб, 1992. 395 с.
Глава 10. БЕРГСОН
Анри Бергсон родился в 1859 г. в Париже. До 19 лет он остается гражданином Великобритании, так как его мать Катрин, увлеченная искусством и привившая сыну любовь к английскому языку, литературе и поэзии, была англичанкой. Анри, воспитывавшийся в пансионах с 9 лет, окончательно решает остаться во Франции и продолжить образование в лицее Кондорсе. Бергсон серьезно и успешно занимался математикой: преподававший ему известный математик Дебов поместил студенческую статью Бергсона в свою книгу о Блезе Паскале и современной геометрии, и за нее Бергсон получил свою первую премию - «Анналов математики». Переход Бергсона в 1881 г. в Эколь Нормаль, где он учился потом философии вместе с Дюркгеймом, стало большим разочарованием для его профессоров: «Вы могли бы стать математиком, а пожелали всего лишь быть философом». Проблематика, интересующая Бергсона, - это прежде всего проблематика научного знания. Он находится под впечатлением англосаксонской философии второй половины XIX в., прежде всего Г. Спенсера, а также целой плеяды французских авторов: Равессона, своеобразно толковавшего идеи де Бирана о соотношении фактов и внутренней жизни, Лашелье, предложившего свою интерпретацию индукции, и преподававшего в то время в Эколь Нормаль, Э. Бутру, развивавшего кантовские идеи применительно к современным законам естественных наук. Бергсон занимается переводом Лукреция и готовит, как это было принято, две выпускные диссертации: «Чувственное познание по Аристотелю» и «Непосредственные данные сознания». Над последней он работал в течение двух лет, уже занимая преподавательскую должность в Клермон-Ферране, но именно в этой работе, вышедшей в 1889 г. под названием «Очерк о непосредственных данных сознания», содержится поворотное, по мнению самого Бергсона, открытие - длительность (la duree): «До того момента, как я осознал длительность, я могу сказать, что я жил снаружи по отношению к самому себе». Развивая идеи двойственной природы нашего познания, Бергсон, занимая с 1890 г. должность профессора Коллеж де Франс, углубляется в проблемы психологии - этому посвящена «Материя и память» (1896). Более специальная работа - «Смех. Очерки о значении комического» (1900) - не менее детально описывает психологический феномен смеха и те ошибочные интерпретации, которые существовали в истории философии. Своеобразной реконструкцией метафизики - революционным интуитивизмом - становится «Творческая эволюция» (1907) и предваряющее ее «Введение в метафизику» (1903). Именно «Творческая эволюция», где вводится понятие творческого порыва ("elan vital), сделала Бергсона для многих - например, Джеймса, Маритэна - культовой фигурой. Его лекции чрезвычайно популярны в Англии, США, Испании - в 1919 г. выходит первый сборник его выступлений «Духовная энергия», второй сборник - «Мысль и движущееся» (1934) станет последней прижизненной публикацией Бергсона. Он становится академиком (1920), в 1917 г. его направляют с особой миссией в США, затем он работает в Лиге Наций в «Комиссии по интеллектуальному сотрудничеству» до тех пор, пока артрит не вынуждает его оставить пост ее президента. В 1928 г. он получает Нобелевскую премию по литературе, после этого он наконец заканчивает еще один труд, столь же фундаментальный, детально проработанный, как и все немногие работы Бергсона, - на этот раз посвященный человеческому обществу «Два источника морали и религии» (1932). В эти годы на Бергсона сильное влияние оказывает католицизм, и он, согласно многим свидетельствам, собирается перейти из иудаизма - религии его родителей - в католичество, но волна антисемитизма заставляет его отложить эти планы: «Я предпочту остаться среди тех, кто завтра будет изгоем». После оккупации Франции фашистами он отказывается от предложенного ему звания «Почетный ариец» и идет в бесконечную очередь регистрации евреев, простужается и через два дня - 7 января 1941 г. - умирает от воспаления легких.
Бергсон является родоначальником интуитивизма, поскольку он противопоставил рациональным познавательным способностям способности интуиции. Только интуиция способна схватить истину - истину целостной и изменчивой жизни. На этом основании Бергсона считают представителем так называемой академической философии жизни, которая старается решить традиционные проблемы философии, исходя из того, что основным специфическим предметом ее внимания должна быть жизнь.
Учение о длительности. В «Очерке о непосредственных данных сознания» Бергсон, во многом под влиянием идей эволюционизма Г. Спенсера и, в частности, его разработки проблемы времени в «Основных началах», вводит свое знаменитое понятие длительности (la dur"ee), которое оказывается определением сознания: «Чистая длительность есть форма, которую принимает последовательность наших состояний сознания, когда наше Я просто живет, когда оно не устанавливает различия между наличными состояниями и теми, что им предшествовали» (1: 93). Бергсон ставит своей задачей определить сознание так, чтобы возникла предельно широкая картина индивидуальной духовной жизни, включающей мысли, образы, эмоции, в противовес популярному тогда количественному подходу в психологии. Ему важно разобраться с тем, как работают понятия в современной науке, прежде всего механике и математике. Но при этом он вышел на самые острые в то время дискуссии в области психологии. Например, «Элементы психофизики» (1860) Г. Т. Фехнера предлагали точную формулу соотношения психического (чувства-восприятия) и физического (стимул) сознания. Бергсон считает, что то, что мы воспринимаем за шкалу - лишь качественная трансформация данных, и следует исходить из чистого качества по отношению к сознанию. Духовная жизнь не подчиняется детерминистским законам науки. Длительность отлична от детерминистского понимания пространства и времени. Казалось бы, эта идея присуща самым разным наукам, в том числе и психологии, но, по мнению Бергсона, ни в одной науке нет концепции, в которой время было представлено так, как мы его переживаем. Идея Бергсона состоит в том, что переживание времени совпадает с последовательностью состояний нашего сознания, которая не сводится к фиксации отдельных единообразных моментов - универсальных дискретных единиц. Бергсон дает в качестве примера сюжет с часами: когда я слежу глазами за стрелками часов, то я считаю одновременности, а не измеряю длительность, - вне меня, в пространстве, есть только одно-единственное положение стрелок, от прошлого ничего не осталось, но «внутри же меня продолжается процесс организации или взаимопроникновения фактов сознания, составляющих истинную длительность» (1: 96). Только благодаря этой длительности я представляю себе прошлые положения в тот самый момент, когда я воспринимаю данное положение.
Сознание в широком его понимании, или истинное, основное Я со всем единством многообразия, состоит в чистом переживании длительности - в чистом протяжении времени. Во многом Бергсон опирается на априоризм И. Канта, согласно которому пространство и время суть априорные формы чувственности. Время - особая форма чувственности, поскольку является «внутренней», структурирует Я и, как отмечается у И. Канта, оказывается основой опыта, конституирующего чувственный материал на основе чистых понятий рассудка по принципу так называемого схематизма времени. Но Кант, с точки зрения Бергсона, путает пространство и время, считая время столь же схематичным, дискретным, как и пространство. Следует противопоставить длительность и пространство. Тем более что всегда существует опасность бессознательно заменить ее пространством, когда мы хотим ее измерить. Однако интуитивистское разрешение противопоставления пространства и времени - Как результата непосредственного схватывания - сопровождается у Бергсона так называемым атомистским аргументом: непрерывность истинного понимания времени противопоставляется дискретности рационального понятия пространства. Именно поэтому аргументация Бергсона не подошла современным философам, выстраивающим концепцию непрерывного изменчивого пространства и апеллирующим к геометрии положения - топологии - в противовес дискретной Евклидовой геометрии. Я, понятое как длительность, будет показано как проявление «неудержимой свободы». Для Бергсона это принципиально важно, это конечная цель исследования: «надо переместиться в чистую длительность, чтобы вновь обрести себя, действовать свободно».
Психология. Двойственная теория познания, представленная в первой работе Бергсона, должна быть дополнена психологией, которая объяснила бы механизм такого познания. Этому посвящена работа «Материя и память». Основные срезы сознания - восприятия и воспоминания - в современной Бергсону психологии рассматривались как различные по степени интенсивности явления одной природы. В этом была особенность и английской философии Нового времени, повлиявшей на всю островную философию ХХ в.: реальность воспринятого объекта и идеальность представленного - суть одно и то же. Как отмечает сам Бергсон, психологическая проблема превращается таким образом в проблему метафизическую, которая требует принципиально нового решения: проблема определения памяти, не сводящего память к функционированию материи - мозга. Поэтому Бергсон начинает с условного «чистого восприятия», то есть тело рассматривается как математическая точка в пространстве, а само восприятие как математический момент во времени, и обнаруживается, что восприятие - это «виртуальное действие вещей на наше тело и нашего тела на вещи» (1: 306), состояние мозга является продолжением восприятия, начавшимся действием. Мозг регистрирует то, что полезно для действия. В этом смысле, по мнению Бергсона, следует понимать интеллектуальные иллюзии, которые сводят всю духовную деятельность исключительно к мозговой. У Бергсона есть замечательное образное определение характера мозговой деятельности: мозг работает как орган пантомимы, он оживляет мысль, переводит ее в движение и мимику. Поэтому психологический анализ должен, во-первых, вернуться к проблеме объяснения происхождения умственных функций, а во-вторых, специальное внимание обратить на метафизическое объяснение механической привычки действовать. Когда мы добавляем субъективные моменты - придаем телу его протяженность, а восприятию - его длительность, или, соответственно, аффективность и память, то окажется, что чистое восприятие не является чистым созерцанием или возвращением к воспоминанию, которое считалось ослабленным восприятием. Бергсон критикует теорию ассоциаций прежде всего за то, что все воспоминания и наша работа с ними рассматриваются как звенья восприятия по принципу сходства или смежности. Даже критики ассоцианизма не видят истинной природы ассоциаций. Согласно Бергсону, есть срез действия, где телесно закреплены некие двигательные привычки - ассоциации разыгрываемые - автоматическая двигательная реакция на сходную внешнюю ситуацию, а есть срез грезы, где никакое действие не примешивается к образу, это сфера чистой памяти, сфера духа. Чистое воспоминание соприкасается с чистым восприятием, отчасти связанным с телесным, в точке реального восприятия, где все оказывается связано с длительностью и памятью. Точка пересечения спонтанного разума с телесным дает нам феномен ассоциаций, появления наиболее простых общих идей. Разум, чтобы дополнить свои воспоминания или локализовать их, должен перейти от бедных воспоминаний, предназначенных для непосредственного телесного действия, к более широкому кругу сознания, удалиться от действия. Здесь нет механических операций разума, это переход на уровень, несводимый к телесному, действующему, материальному, - переход на уровень духа. Воспоминание не может быть поэтому результатом церебрального состояния. Это сфера духа. Память отделима от мозговой деятельности и именно благодаря памяти мы обретаем чувство собственного Я - все богатство нашего внутреннего духовного мира, не связанного с внешними действиями.
Главный вывод рассуждений о материи и духе, с точки зрения самого Бергсона, состоит не в подтверждении дуализма, а в устранении или смягчении проблемы «тройной противоположности непротяженного и протяженного, качества и количества, свободы и необходимости» (1: 313), связанной с дуализмом. Получается, что «непосредственная данность, реальность представляет собой нечто промежуточное между разделенной на части протяженностью и чистой непротяженностью: это то, что мы назвали экстенсивным» (1: 313 - 314). Это свойство восприятия, которое активно используется рассудком в интересах действия: абстрактное пространство, например, позволяет нам манипулировать множественной и бесконечно делимой протяженностью, мы можем уменьшать плотность восприятия, растворяя его в аффектах, или, наоборот, превращать его в чистые идеи. Эта двойная работа в противоположных направлениях и излишнее доверие рассудку приводят к тому, что исходная интуиция восприятия как экстенсивного утрачивается и ее сменяет жесткая антиномия бесконечно делимой протяженности и абсолютно непротяженных ощущений. Если мы принимаем первую противоположность, то, как следствие, принимаем и вторую: качества и количества, то есть, по Бергсону, сознания и движения. Но ее можно снять, по мнению Бергсона, при помощи другой идеи, аналогичной идее экстенсивности, - идеи внутреннегонапряжения, или ритма длительности, которое различает чувственные качества в том виде, как они даны нам в представлении, и теми же качествами, которые трактуются как исчислимые изменения. Свобода оказывается связана с необходимостью следующим образом: «дух заимствует у материи восприятия, которые его питают, и возвращает их ей, придав форму движения, - форму, в которой воплощена его свобода» (1:316). Говоря об эволюции живого и появлении сознания, Бергсон отмечает, что сознание благодаря памяти о непосредственном опыте прошлого, которая помогает организовать это прошлое в одно целое с настоящим, становится способным легко согласовываться с необходимостью.
Критики и последователи Бергсона столкнулись с трудностями понимания своеобразной терминологии, которая используется в этой работе и отличается от общепринятой (например, образы понимаются как репрезентативные ощущения и т. п.). Многие сделали акцент на проблеме свободы, как центральной для вопроса о соотнесении тела с духом, однако интерпретации часто противоречат друг другу - Бергсона обвиняют в сенсуализации свободы, в ее регрессивном понимании, в ее понимании как необходимости и т. д.
Творческая эволюция. Однако именно эти идеи о соотношении свободы и необходимости реально представляющие взаимопроникновения духа и материи подготавливают выход основного метафизического труда Бергсона «Творческая эволюция», в которой главным предметом исследования станет единство жизни. Бергсон в этот период уже критически расценивает все существующие эволюционистские концепции, прежде всего дарвинизм, также и эволюционизм Г. Спенсера, под влиянием которого он находился в начале своей философской эволюции. Процесс развития, с точки зрения этих концепций, телеологичен, и даже у Спенсера эволюция прослеживается по отдельным изменениям, которые фиксируются рациональным анализом как изменения форм, - это так называемый дизморфизм.
При этом единство жизни понимается не как абстрактное единство, схватываемое интеллектом. Бергсон подвергает критике основы гегельянства и считает, что теория жизни должна получить свою антиинтеллектуалистскую теорию познания, основанную на том, что составляет саму жизнь. Надо переживать жизнь, или, как выражается Бергсон, попытаться зачерпнуть воду решетом. Это возможно только с помощью интуиции. Только в интуиции дано созерцание движения в той же непрерывности, что и изменчивости сознания.
Именно поэтому Бергсон начинает с проблемы психофизического параллелизма, апеллируя к Декарту и формулируя свое положение о соотношении мозга и ума: мозг и ум солидарны, но не тождественны. То, что в душе, не ум - инстинкт: «сила, действующая на материю и организующая ее сообразно цели, требуемой жизнью». Это отличает инстинкт от автоматического поведения, примеров которого Бергсон приводит множество. Это прежде всего мир насекомых, где оса «знает», как парализовать жертву.
В отличие от автоматизма инстинкт предполагает некоторую симпатию, душевную открытость миру, знание единства жизни, не продуманное заранее, не усвоенное специально, а обнаруженное действиями, пережитое и выраженное. Если ум направлен на множество объектов и выявляет их сходство и различие, сравнивая каждый элемент множества с каждым другим, то инстинкт схватывает один объект или его часть, но схватывает по особенному - в его изменчивости. Ум устанавливает отношения между вещами, выделяет свойства и на основании этого способен выделывать искусственные орудия труда. Ум выделяет требуемую функцию и увязывает ее с тем или иным свойством,
которое характерно для целого ряда предметов. Инстинкт не высчитывает и не анализирует, но именно благодаря ему хищник догоняет свою жертву, схватывая ее в движении, а не вычерчивая и не просчитывая траекторию ее пути. Благодаря инстинкту появляются естественные орудия труда, использующие объект в целом или его часть. Это частичное познание, но поскольку в этой части оно целостно, только инстинкт способен познать движение и жизнь. Но самое главное, инстинкт способен осознать самое себя. На этом строится, например, эстетическое восприятие, которое ближе всего к философии жизни. Философия должна перестать быть наукой, чтобы знать не относительно, а абсолютно - так звучит один из афоризмов Бергсона. Традиционная наука опирается на сравнение и символическое обозначение предмета и дает знание не тождественное предмету. Главным методом должна стать интуиция, непосредственное знание. Это двойное движение напряжения и ослабления, которое сначала направлено на само Я. Это необходимый толчок для получения правильного направления познавательного поиска. Так, первой в картине мира становится психологическая интроспекция, на основе которой по аналогии выстраивается картина Вселенной. Здесь, на этапе метафизики подключается разум. Философия интуиции, таким образом, сможет выстроить метафизику абсолютного, схватить качество жизни, то есть жизнь в становлении и движении, сможет понять настоящее, а не только прошлое, как эволюцию.
Основные определения жизни у Бергсона оказываются метафоричными. Наиболее устойчивым является образ непрерывного творческого порыва ("elan vital), который описывается как «ракета, потухшие остатки которой падают в виде материи... также то, что сохраняется от самой ракеты и, прорезая эти остатки, зажигает их в организмы» (2: 233). В другом определении подчеркивается роль сознания, которое является двигательным принципом эволюции. Однако в литературе нет однозначного мнения можно ли на этом основании считать концепцию Бергсона идеалистической, можно ли трактовать основу жизни как сверх-сознание. Ведь, согласно Бергсону, спонтанный жизненный порыв лежит в основании тех проявлений и творческого поиска в материи, которые откликаются раздражимостью (у растений), инстинктом (у животных), интеллектом и интуицией-инстинктом - Бергсон использует оба термина - (у человека).
Общество. Соответствовать этому жизненному отклику должно и общество, которое Бергсон называет открытым и отличает от закрытого, и его духовное основание - динамические, в отличие от статических, мораль и религия. Социальная концепция завершает философию духовной жизни и творческого порыва: в качестве организующего принципа должна утвердиться любовь к человечеству на основе новой метафизики интуитивистской философии жизни. В закрытых обществах, которые существуют ради самосохранения и защищают интересы небольшой группы людей, главным моральным принципом является моральный долг - основа воли как общая привычка. Это надындивидуальное социальное требование замкнутого общества, требующего дисциплины и иерархического подчинения. Статическая религия, обслуживающая замкнутое общество, создает мифы, которые успокаивают и защищают от страха перед смертью и всевластием интеллекта. Но даже в замкнутом обществе появляются герои, несущие с собой творческое началои открытость. В статической религии могут появиться тексты, проповедующие братскую любовь как, например, в евангельской Нагорной проповеди. Истинная религия строится сама на творческом порыве и любви, она мистична, поскольку мистика соответствует изменчивости жизни. Динамическая мораль призвана развивать любовь к человечеству и Богу - каждый отдельный человек эмоционально отзывается на призывы моральных героев. Только в открытом обществе каждый отдельный человек - личность, благодаря этому общество постоянно развивается. За такими обществами - будущее. На основе этих идей Бергсона появляется концепция «открытого общества» К. Поппера. В социальной утопии наиболее ярко проявились те качества Бергсона, которые назвал П. Валери на специальном заседании Академии, посвященном памяти Бергсона в 1941 году: «Возвышенный, чистый, превосходный образ мыслящего человека, может быть одного из последних людей, необыкновенно, глубоко, величественно мыслящих во времена, когда мир все меньше думает и размышляет, когда цивилизация, кажется, со дня на день превратится в руины и воспоминание...» (1: 49).