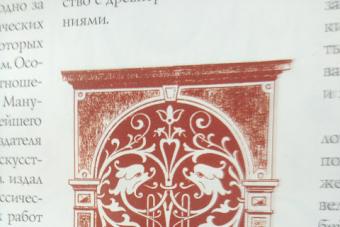Это был человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока.
Иногда взгляд его помрачался выражением будто усталости или скуки; но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и основным выражением, не лица только, а всей души; а душа так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, руки. И поверхностно наблюдательный, холодный человек, взглянув мимоходом на Обломова, сказал бы: «Добряк должен быть, простота!» Человек поглубже и посимпатичнее, долго вглядываясь в лицо его, отошел бы в приятном раздумье, с улыбкой.
Цвет лица у Ильи Ильича не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а безразличный или казался таким, может быть, потому, что Обломов как-то обрюзг не по летам: от недостатка ли движения или воздуха, а может быть, того и другого. Вообще же тело его, судя по матовому, чересчур белому цвету шеи, маленьких пухлых рук, мягких плеч, казалось слишком изнеженным для мужчины.
Движения его, когда он был даже встревожен, сдерживались также мягкостью и не лишенною своего рода грации ленью. Если на лицо набегала из души туча заботы, взгляд туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнений, печали, испуга; но редко тревога эта застывала в форме определенной идеи, еще реже превращалась в намерение. Вся тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии или в дремоте.
Как шел домашний костюм Обломова к покойным чертам лица его и к изнеженному телу! На нем был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что и Обломов мог дважды завернуться в него. Рукава, по неизменной азиатской моде, шли от пальцев к плечу все шире и шире. Хотя халат этот и утратил свою первоначальную свежесть и местами заменил свой первобытный, естественный лоск другим, благоприобретенным, но все еще сохранял яркость восточной краски и прочность ткани.
Халат имел в глазах Обломова тьму неоцененных достоинств: он мягок, гибок; тело не чувствует его на себе; он, как послушный раб, покоряется самомалейшему движению тела.
Обломов всегда ходил дома без галстука и без жилета, потому что любил простор и приволье. Туфли на нем были длинные, мягкие и широкие; когда он, не глядя, опускал ноги с постели на пол, то непременно попадал в них сразу.
Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя: это было его нормальным состоянием. Когда он был дома - а он был почти всегда дома, - он все лежал, и все постоянно в одной комнате, где мы его нашли, служившей ему спальней, кабинетом и приемной. У него было еще три комнаты, но он редко туда заглядывал, утром разве, и то не всякий день, когда человек мел кабинет его, чего всякий день не делалось. В тех комнатах мебель закрыта была чехлами, шторы спущены.
Комната, где лежал Илья Ильич, с первого взгляда казалась прекрасно убранною. Там стояло бюро красного дерева, два дивана, обитые шелковою материею, красивые ширмы с вышитыми небывалыми в природе птицами и плодами. Были там шелковые занавесы, ковры, несколько картин, бронза, фарфор и множество красивых мелочей.
Но опытный глаз человека с чистым вкусом одним беглым взглядом на все, что тут было, прочел бы только желание кое-как соблюсти decorum неизбежных приличий, лишь бы отделаться от них. Обломов хлопотал, конечно, только об этом, когда убирал свой кабинет. Утонченный вкус не удовольствовался бы этими тяжелыми, неграциозными стульями красного дерева, шаткими этажерками. Задок у одного дивана оселся вниз, наклеенное дерево местами отстало.
Точно тот же характер носили на себе и картины, и вазы, и мелочи.
Сам хозяин, однако, смотрел на убранство своего кабинета так холодно и рассеянно, как будто спрашивал глазами: «Кто сюда натащил и наставил все это?» От такого холодного воззрения Обломова на свою собственность, а может быть, и еще от более холодного воззрения на тот же предмет слуги его, Захара, вид кабинета, если осмотреть там все повнимательнее, поражал господствующею в нем запущенностью и небрежностью.
В комнату вошел пожилой человек, в сером сюртуке, с прорехою под мышкой, откуда торчал клочок рубашки, в сером же жилете, с медными пуговицами, с голым, как колено, черепом и с необъятно широкими и густыми русыми с проседью бакенбардами, из которых каждой стало бы на три бороды.
Захар не старался изменить не только данного ему Богом образа, но и своего костюма, в котором ходил в деревне. Платье ему шилось по вывезенному им из деревни образцу. Серый сюртук и жилет нравились ему и потому, что в этой полуформенной одежде он видел слабое воспоминание ливреи, которую он носил некогда, провожая покойных господ в церковь или в гости; а ливрея в воспоминаниях его была единственною представительницею достоинства дома Обломовых.
Более ничто не напоминало старику барского широкого и покойного быта в глуши деревни. Старые господа умерли, фамильные портреты остались дома и, чай, валяются где-нибудь на чердаке; предания о старинном быте и важности фамилии всё глохнут или живут только в памяти немногих, оставшихся в деревне же стариков. Поэтому для Захара дорог был серый сюртук: в нем да еще в кое-каких признаках, сохранившихся в лице и манерах барина, напоминавших его родителей, и в его капризах, на которые хотя он и ворчал, и про себя и вслух, но которые между тем уважал внутренно, как проявление барской воли, господского права, видел он слабые намеки на отжившее величие.
Без этих капризов он как-то не чувствовал над собой барина; без них ничто не воскрешало молодости его, деревни, которую они покинули давно, и преданий об этом старинном доме, единственной хроники, веденной старыми слугами, няньками, мамками и передаваемой из рода в род.
Дом Обломовых был когда-то богат и знаменит в своей стороне, но потом, бог знает отчего, все беднел, мельчал и, наконец, незаметно потерялся между нестарыми дворянскими домами. Только поседевшие слуги дома хранили и передавали друг другу верную память о минувшем, дорожа ею, как святынею.
Вот отчего Захар так любил свой серый сюртук. Может быть, и бакенбардами своими он дорожил потому, что видел в детстве своем много старых слуг с этим старинным, аристократическим украшением.
Илья Ильич, погруженный в задумчивость, долго не замечал Захара. Захар стоял перед ним молча. Наконец он кашлянул.
Что ты? - спросил Илья Ильич.
Ведь вы звали?
Звал? Зачем же это я звал - не помню! - отвечал он, потягиваясь. - Поди пока к себе, а я вспомню.
Захар ушел, а Илья Ильич продолжал лежать и думать о проклятом письме.
Прошло с четверть часа.
Ну, полно лежать! - сказал он, - надо же встать... А впрочем, дай-ка я прочту еще раз со вниманием письмо старосты, а потом уж и встану. Захар!
Опять тот же прыжок и ворчанье сильнее. Захар вошел, а Обломов опять погрузился в задумчивость. Захар стоял минуты две, неблагосклонно, немного стороной посматривая на барина, и, наконец, пошел к дверям.
Куда же ты? - вдруг спросил Обломов.
Вы ничего не говорите, так что ж тут стоять-то даром? - захрипел Захар, за неимением другого голоса, который, по словам его, он потерял на охоте с собаками, когда ездил с старым барином и когда ему дунуло будто сильным ветром в горло.
Он стоял вполуоборот среди комнаты и глядел все стороной на Обломова.
А у тебя разве ноги отсохли, что ты не можешь постоять? Ты видишь, я озабочен - так и подожди! Не належался еще там? Сыщи письмо, что я вчера от старосты получил. Куда ты его дел?
Какое письмо? Я никакого письма не видал, - сказал Захар.
Ты же от почтальона принял его: грязное такое!
Куда ж его положили - почему мне знать? - говорил Захар, похлопывая рукой по бумагам и по разным вещам, лежавшим на столе.
Ты никогда ничего не знаешь. Там, в корзине, посмотри! Или не завалилось ли за диван? Вот спинка-то у дивана до сих пор не починена; что б тебе призвать столяра да починить? Ведь ты же изломал. Ни о чем не подумаешь!
Я не ломал, - отвечал Захар, - она сама изломалась; не век же ей быть: надо когда-нибудь изломаться.
Илья Ильич не счел за нужное доказывать противное.
Нашел, что ли? - спросил он только.
Вот какие-то письма.
Ну, так нет больше, - говорил Захар.
Ну хорошо, поди! - с нетерпением сказал Илья Ильич, - я встану, сам найду.
Захар пошел к себе, но только он уперся было руками о лежанку, чтоб прыгнуть на нее, как опять послышался торопливый крик: «Захар, Захар!»
Ах ты, господи! - ворчал Захар, отправляясь опять в кабинет. - Что это за мученье? Хоть бы смерть скорее пришла!
Чего вам? - сказал он, придерживаясь одной рукой за дверь кабинета и глядя на Обломова, в знак неблаговоления, до того стороной, что ему приходилось видеть барина вполглаза, а барину видна была только одна необъятная бакенбарда, из которой так и ждешь, что вылетят две-три птицы.
Носовой платок, скорей! Сам бы ты мог догадаться: не видишь! - строго заметил Илья Ильич.
Захар не обнаружил никакого особенного неудовольствия или удивления при этом приказании и упреке барина, находя, вероятно, с своей стороны и то и другое весьма естественным.
А кто его знает, где платок? - ворчал он, обходя вокруг комнату и ощупывая каждый стул, хотя и так можно было видеть, что на стульях ничего не лежит.
Все теряете! - заметил он, отворяя дверь в гостиную, чтоб посмотреть, нет ли там.
Куда? Здесь ищи! Я с третьего дня там не был. Да скорее же! - говорил Илья Ильич.
Где платок? Нету платка! - говорил Захар, разводя руками и озираясь во все углы. - Да вон он, - вдруг сердито захрипел он, - под вами! Вон конец торчит. Сами лежите на нем, а спрашиваете платка!
И, не дожидаясь ответа, Захар пошел было вон. Обломову стало немного неловко от собственного промаха. Он быстро нашел другой повод сделать Захара виноватым.
Какая у тебя чистота везде: пыли-то, грязи-то, боже мой! Вон, вон, погляди-ка в углах-то - ничего не делаешь!
Уж коли я ничего не делаю... - заговорил Захар обиженным голосом, - стараюсь, жизни не жалею! И пыль-то стираю, и мету-то почти каждый день...
Он указал на середину пола и на cтол, на котором Обломов обедал.
Вон, вон, - говорил он, - все подметено, прибрано, словно к свадьбе... Чего еще?
А это что? - прервал Илья Ильич, указывая на стены и на потолок. - А это? А это? - Он указал и на брошенное со вчерашнего дня полотенце, и на забытую на столе тарелку с ломтем хлеба.
Ну, это, пожалуй, уберу, - сказал Захар снисходительно, взяв тарелку.
Только это! А пыль по стенам, а паутина?.. - говорил Обломов, указывая на стены.
Это я к Святой неделе убираю: тогда образа чищу и паутину снимаю...
А книги, картины обмести?..
Книги и картины перед Рождеством: тогда с Анисьей все шкапы переберем. А теперь когда станешь убирать? Вы всё дома сидите.
Я иногда в театр хожу да в гости: вот бы...
Что за уборка ночью!
Обломов с упреком поглядел на него, покачал головой и вздохнул, а Захар равнодушно поглядел в окно и тоже вздохнул. Барин, кажется, думал: «Ну, брат, ты еще больше Обломов, нежели я сам», а Захар чуть ли не подумал: «Врешь! ты только мастер говорить мудреные да жалкие слова, а до пыли и до паутины тебе и дела нет».
Понимаешь ли ты, - сказал Илья Ильич, - что от пыли заводится моль? Я иногда даже вижу клопа на стене!
У меня и блохи есть! - равнодушно отозвался Захар.
Разве это хорошо? Ведь это гадость! - заметил Обломов.
Захар усмехнулся во все лицо, так что усмешка охватила даже брови и бакенбарды, которые от этого раздвинулись в стороны, и по всему лицу до самого лба расплылось красное пятно.
Чем же я виноват, что клопы на свете есть? - сказал он с наивным удивлением. - Разве я их выдумал?
Это от нечистоты, - перебил Обломов. - Что ты все врешь!
И нечистоту не я выдумал.
У тебя, вот, там, мыши бегают по ночам - я слышу.
И мышей не я выдумал. Этой твари, что мышей, что кошек, что клопов, везде много.
Как же у других не бывает ни моли, ни клопов?
На лице Захара выразилась недоверчивость, или, лучше сказать, покойная уверенность, что этого не бывает.
У меня всего много, - сказал он упрямо, - за всяким клопом не усмотришь, в щелку к нему не влезешь.
А сам, кажется, думал: «Да и что за спанье без клопа?»
Ты мети, выбирай сор из углов - и не будет ничего, - учил Обломов.
Уберешь, а завтра опять наберется, - говорил Захар.
Не наберется, - перебил барин, - не должно.
Наберется - я знаю, - твердил слуга.
А наберется, так опять вымети.
Как это? Всякий день перебирай все углы? - спросил Захар. - Да что ж это за жизнь? Лучше Бог по душу пошли!
Отчего ж у других чисто? - возразил Обломов. - Посмотри напротив, у настройщика: любо взглянуть, а всего одна девка...
А где немцы сору возьмут, - вдруг возразил Захар. - Вы поглядите-ко, как они живут! Вся семья целую неделю кость гложет. Сюртук с плеч отца переходит на сына, а с сына опять на отца. На жене и дочерях платьишки коротенькие: всё поджимают под себя ноги, как гусыни... Где им сору взять? У них нет этого вот, как у нас, чтоб в шкапах лежала по годам куча старого изношенного платья или набрался целый угол корок хлеба за зиму... У них и корка зря не валяется: наделают сухариков да с пивом и выпьют!
Захар даже сквозь зубы плюнул, рассуждая о таком скаредном житье.
Нечего разговаривать! - возразил Илья Ильич, - ты лучше убирай.
Иной раз и убрал бы, да вы же сами не даете, - сказал Захар.
Пошел свое! Все, видишь, я мешаю.
Конечно, вы; все дома сидите: как при вас станешь убирать? Уйдите на целый день, так и уберу.
Вот еще выдумал что - уйти! Поди-ка ты лучше к себе.
Да право! - настаивал Захар. - Вот хоть бы сегодня ушли, мы бы с Анисьей и убрали все. И то не управимся вдвоем-то: надо еще баб нанять, перемыть все.
Э! какие затеи - баб! Ступай себе, - говорил Илья Ильич.
Он уж был не рад, что вызвал Захара на этот разговор. Он все забывал, что чуть тронешь этот деликатный предмет, так и не оберешься хлопот.
Обломову и хотелось бы, чтоб было чисто, да он бы желал, чтоб это сделалось как-нибудь так, незаметно, само собой; а Захар всегда заводил тяжбу, лишь только начинали требовать от него сметания пыли, мытья полов и т. п. Он в таком случае станет доказывать необходимость громадной возни в доме, зная очень хорошо, что одна мысль об этом приводила барина его в ужас.
Захар ушел, а Обломов погрузился в размышления. Чрез несколько минут пробило еще полчаса.
Что это? - почти с ужасом сказал Илья Ильич. - Одиннадцать часов скоро, а я еще не встал, не умылся до сих пор? Захар, Захар!
Ах ты, боже мой! Ну! - послышалось из передней, и потом известный прыжок.
Умыться готово? - спросил Обломов.
Готово давно! - отвечал Захар, - чего вы не встаете?
Что ж ты не скажешь, что готово? Я бы уж и встал давно. Поди же, я сейчас иду вслед за тобою. Мне надо заниматься, я сяду писать.
Захар ушел, но чрез минуту воротился с исписанной и замасленной тетрадкой и клочками бумаги.
Вот, коли будете писать, так уж кстати извольте и счеты поверить: надо деньги заплатить.
Какие счеты? Какие деньги? - с неудовольствием спросил Илья Ильич.
Ну, мне пора! - сказал Волков. - За камелиями для букета Мише. Au revoir.
Приезжайте вечером чай пить, из балета: расскажете, как там что было, - приглашал Обломов.
Не могу, дал слово к Муссинским: их день сегодня. Поедемте и вы. Хотите, я вас представлю?
Нет, что там делать?
У Муссинских? Помилуйте, да там полгорода бывает. Как что делать? Это такой дом, где обо всем говорят...
Вот это-то и скучно, что обо всем, - сказал Обломов.
Ну, посещайте Мездровых, - перебил Волков, - там уж об одном говорят, об искусствах; только и слышишь: венецианская школа, Бетховен да Бах, Леонардо да Винчи...
Век об одном и том же - какая скука! Педанты, должно быть! - сказал, зевая, Обломов.
На вас не угодишь. Да мало ли домов! Теперь у всех дни: у Савиновых по четвергам обедают, у Маклашиных - пятницы, у Вязниковых - воскресенья, у князя Тюменева - середы. У меня все дни заняты! - с сияющими глазами заключил Волков.
И вам не лень мыкаться изо дня в день?
Вот, лень! Что за лень? Превесело! - беспечно говорил он. - Утро почитаешь, надо быть au courant всего, знать новости. Слава богу, у меня служба такая, что не нужно бывать в должности. Только два раза в неделю посижу да пообедаю у генерала, а потом поедешь с визитами, где давно не был; ну, а там... новая актриса, то на русском, то на французском театре. Вот опера будет, я абонируюсь. А теперь влюблен... Начинается лето; Мише обещали отпуск; поедем к ним в деревню на месяц, для разнообразия. Там охота. У них отличные соседи, дают bals champêtres. С Лидией будем в роще гулять, кататься в лодке, рвать цветы... Ах!.. - и он перевернулся от радости. - Однако пора... Прощайте, - говорил он, напрасно стараясь оглядеть себя спереди и сзади в запыленное зеркало.
Погодите, - удерживал Обломов, - я было хотел поговорить с вами о делах.
Это был господин в темно-зеленом фраке с гербовыми пуговицами, гладко выбритый, с темными, ровно окаймлявшими его лицо бакенбардами, с утружденным, но покойно-сознательным выражением в глазах, с сильно потертым лицом, с задумчивой улыбкой.
Здравствуй, Судьбинский! - весело поздоровался Обломов. - Насилу заглянул к старому сослуживцу! Не подходи, не подходи! Ты с холоду.
Здравствуй, Илья Ильич. Давно собирался к тебе, - говорил гость, - да ведь ты знаешь, какая у нас дьявольская служба! Вон, посмотри, целый чемодан везу к докладу; и теперь, если там спросят что-нибудь, велел курьеру скакать сюда. Ни минуты нельзя располагать собой.
Ты еще на службу? Что так поздно? - спросил Обломов. - Бывало, ты с десяти часов...
Бывало - да; а теперь другое дело: в двенадцать часов езжу. - Он сделал на последнем слове ударение.
А! догадываюсь! - сказал Обломов. - Начальник отделения! Давно ли?
Судьбинский значительно кивнул головой.
К Святой, - сказал он. - Но сколько дела - ужас! С восьми до двенадцати часов дома, с двенадцати до пяти в канцелярии, да вечером занимаюсь. От людей отвык совсем!
Гм! Начальник отделения - вот как! - сказал Обломов. - Поздравляю! Каков? А вместе канцелярскими чиновниками служили. Я думаю, на будущий год в статские махнешь.
Куда! Бог с тобой! Еще нынешний год корону надо получить; думал, за отличие представят, а теперь новую должность занял: нельзя два года сряду...
Приходи обедать, выпьем за повышение! - сказал Обломов.
Нет, сегодня у вице-директора обедаю. К четвергу надо приготовить доклад - адская работа! На представления из губерний положиться нельзя. Надо проверить самому списки. Фома Фомич такой мнительный: все хочет сам. Вот сегодня вместе после обеда и засядем.
Ужели и после обеда? - спросил Обломов недоверчиво.
А как ты думал? Еще хорошо, если пораньше отделаюсь да успею хоть в Екатерингоф прокатиться... Да, я заехал спросить: не поедешь ли ты на гулянье? Я бы заехал...
Нездоровится что-то, не могу! - сморщившись, сказал Обломов. - Да и дела много... нет, не могу!
Жаль! - сказал Судьбинский, - а день хорош. Только сегодня и надеюсь вздохнуть.
Ну, что нового у вас? - спросил Обломов.
Ничего пока; Свинкин дело потерял!
В самом деле? Что ж директор? - спросил Обломов дрожащим голосом. Ему, по старой памяти, страшно стало.
Велел задержать награду, пока не отыщется. Дело важное: «о взысканиях». Директор думает, - почти шепотом прибавил Судьбинский, - что он потерял его... нарочно.
Не может быть! - сказал Обломов.
Нет, нет! Это напрасно, - с важностью и покровительством подтвердил Судьбинский. - Свинкин ветреная голова. Иногда черт знает какие тебе итоги выведет, перепутает все справки. Я измучился с ним; а только нет, он не замечен ни в чем таком... Он не сделает, нет, нет! Завалялось дело где-нибудь; после отыщется.
Так вот как: всё в трудах! - говорил Обломов, - работаешь.
Ужас, ужас! Ну, конечно, с таким человеком, как Фома Фомич, приятно служить: без наград не оставляет; кто и ничего не делает, и тех не забудет. Как вышел срок - за отличие, так и представляет; кому не вышел срок к чину, к кресту, - деньги выхлопочет...
Ты сколько получаешь?
Фу! черт возьми! - сказал, вскочив с постели, Обломов. - Голос, что ли, у тебя хорош? Точно итальянский певец!
Что еще это? Вон Пересветов прибавочные получает, а дела-то меньше моего делает и не смыслит ничего. Ну, конечно, он не имеет такой репутации. Меня очень ценят, - скромно прибавил он, потупя глаза, - министр недавно выразился про меня, что я «украшение министерства».
Молодец! - сказал Обломов. - Вот только работать с восьми часов до двенадцати, с двенадцати до пяти, да дома еще - ой, ой!
Он покачал головой.
А что ж бы я стал делать, если б не служил? - спросил Судьбинский.
Мало ли что! Читал бы, писал... - сказал Обломов.
Я и теперь только и делаю, что читаю да пишу.
Да это не то; ты бы печатал...
Не всем же быть писателями. Вот и ты ведь не пишешь, - возразил Судьбинский.
Зато у меня имение на руках, - со вздохом сказал Обломов. - Я соображаю новый план; разные улучшения ввожу. Мучаюсь, мучаюсь... А ты ведь чужое делаешь, не свое.
Он добрый малый! - сказал Обломов.
Добрый, добрый; он стоит.
Очень добрый, характер мягкий, ровный, - говорил Обломов.
Такой обязательный, - прибавил Судьбинский, - и нет этого, знаешь, чтоб выслужиться, подгадить, подставить ногу, опередить... все делает, что может.
Прекрасный человек! Бывало, напутаешь в бумаге, не доглядишь, не то мнение или законы подведешь в записке, ничего: велит только другому переделать. Отличный человек! - заключил Обломов.
А вот наш Семен Семеныч так неисправим, - сказал Судьбинский, - только мастер пыль в глаза пускать. Недавно что он сделал: из губерний поступило представление о возведении при зданиях, принадлежащих нашему ведомству, собачьих конур для сбережения казенного имущества от расхищения; наш архитектор, человек дельный, знающий и честный, составил очень умеренную смету; вдруг показалась ему велика, и давай наводить справки, что может стоить постройка собачьей конуры? Нашел где-то тридцатью копейками меньше - сейчас докладную записку...
Раздался еще звонок.
Прощай, - сказал чиновник, - я заболтался, что-нибудь понадобится там...
Посиди еще, - удерживал Обломов. - Кстати, я посоветуюсь с тобой: у меня два несчастья...
Нет, нет, я лучше опять заеду на днях, - сказал он, уходя.
«Увяз, любезный друг, по уши увяз, - думал Обломов, провожая его глазами. - И слеп, и глух, и нем для всего остального в мире. А выйдет в люди, будет со временем ворочать делами и чинов нахватает... У нас это называется тоже карьерой! А как мало тут человека-то нужно: ума его, воли, чувства - зачем это? Роскошь! И проживет свой век, и не пошевелится в нем многое, многое... А между тем работает с двенадцати до пяти в канцелярии, с восьми до двенадцати дома - несчастный!»
Он испытал чувство мирной радости, что он с девяти до трех, с восьми до девяти может пробыть у себя на диване, и гордился, что не надо идти с докладом, писать бумаг, что есть простор его чувствам, воображению.
Много у вас дела? - спросил Обломов.
Да, довольно. Две статьи в газету каждую неделю, потом разборы беллетристов пишу, да вот написал рассказ...
О том, как в одном городе городничий бьет мещан по зубам...
Да, это в самом деле реальное направление, - сказал Обломов.
Не правда ли? - подтвердил обрадованный литератор. - Я провожу вот какую мысль и знаю, что она новая и смелая. Один проезжий был свидетелем этих побоев и при свидании с губернатором пожаловался ему. Тот приказал чиновнику, ехавшему туда на следствие, мимоходом удостовериться в этом и вообще собрать сведения о личности и поведении городничего. Чиновник созвал мещан, будто расспросить о торговле, а между тем давай разведывать и об этом. Что ж мещане? Кланяются да смеются и городничего превозносят похвалами. Чиновник стал узнавать стороной, и ему сказали, что мещане - мошенники страшные, торгуют гнилью, обвешивают, обмеривают даже казну, все безнравственны, так что побои эти - праведная кара...
Стало быть, побои городничего выступают в повести, как fatum древних трагиков? - сказал Обломов.
Именно, - подхватил Пенкин. - У вас много такта, Илья Ильич, вам бы писать! А между тем мне удалось показать и самоуправство городничего, и развращение нравов в простонародье; дурную организацию действий подчиненных чиновников и необходимость строгих, но законных мер... Не правда ли, эта мысль... довольно новая?
Да, в особенности для меня, - сказал Обломов, - я так мало читаю...
В самом деле не видать книг у вас! - сказал Пенкин. - Но, умоляю вас, прочтите одну вещь; готовится великолепная, можно сказать, поэма: «Любовь взяточника к падшей женщине». Я не могу вам сказать, кто
Что ж там такое?
Обнаружен весь механизм нашего общественного движения, и все в поэтических красках. Все пружины тронуты; все ступени общественной лестницы перебраны. Сюда, как на суд, созваны автором и слабый, но порочный вельможа, и целый рой обманывающих его взяточников; и все разряды падших женщин разобраны... француженки, немки, чухонки, и всё, всё... с поразительной, животрепещущей верностью... Я слышал отрывки - автор велик! в нем слышится то Дант, то Шекспир...
Вон куда хватили, - в изумлении сказал Обломов, привстав.
Пенкин вдруг смолк, видя, что действительно он далеко хватил.
Отчего ж? Это делает шум, об этом говорят...
Да пускай их! Некоторым ведь больше нечего и делать, как только говорить. Есть такое призвание.
Да хоть из любопытства прочтите.
Чего я там не видал? - говорил Обломов. - Зачем это они пишут: только себя тешат...
Как себя: верность-то, верность какая! До смеха похоже. Точно живые портреты. Как кого возьмут, купца ли, чиновника, офицера, будочника, - точно живьем и отпечатают.
Из чего же они бьются: из потехи, что ли, что вот кого-де ни возьмем, а верно и выйдет? А жизни-то и нет ни в чем: нет понимания ее и сочувствия, нет того, что там у вас называется гуманитетом. Одно самолюбие только. Изображают-то они воров, падших женщин, точно ловят их на улице да отводят в тюрьму. В их рассказе слышны не «невидимые слезы», а один только видимый, грубый смех, злость...
Что ж еще нужно? И прекрасно, вы сами высказались: это кипучая злость - желчное гонение на порок, смех презрения над падшим человеком... тут все!
Нет, не все! - вдруг воспламенившись, сказал Обломов, - изобрази вора, падшую женщину, надутого глупца, да и человека тут же не забудь. Где же человечность-то? Вы одной головой хотите писать! - почти шипел Обломов. - Вы думаете, что для мысли не надо сердца? Нет, она оплодотворяется любовью. Протяните руку падшему человеку, чтоб поднять его, или горько плачьте над ним, если он гибнет, а не глумитесь. Любите его, помните в нем самого себя и обращайтесь с ним, как с собой, - тогда я стану вас читать и склоню перед вами голову... - сказал он, улегшись опять покойно на диване. - Изображают они вора, падшую женщину, - говорил он, - а человека-то забывают или не умеют изобразить. Какое же тут искусство, какие поэтические краски нашли вы? Обличайте разврат, грязь, только, пожалуйста, без претензии на поэзию.
Что же, природу прикажете изображать: розы, соловья или морозное утро, между тем как все кипит, движется вокруг? Нам нужна одна голая физиология общества; не до песен нам теперь...
Человека, человека давайте мне! - говорил Обломов, - любите его...
Любить ростовщика, ханжу, ворующего или тупоумного чиновника - слышите? Что вы это? И видно, что вы не занимаетесь литературой! - горячился Пенкин. - Нет, их надо карать, извергнуть из гражданской среды, из общества...
Извергнуть из гражданской среды! - вдруг заговорил вдохновенно Обломов, встав перед Пенкиным. - Это значит забыть, что в этом негодном сосуде присутствовало высшее начало; что он испорченный человек, но все человек же, то есть вы сами. Извергнуть! А как вы извергнете его из круга человечества, из лона природы, из милосердия Божия? - почти крикнул он с пылающими глазами.
Вон куда хватили! - в свою очередь с изумлением сказал Пенкин.
Обломов увидел, что и он далеко хватил. Он вдруг смолк, постоял с минуту, зевнул и медленно лег на диван.
Оба погрузились в молчание.
Что ж вы читаете? - спросил Пенкин.
Я... да все путешествия больше.
Опять молчание.
Так прочтете поэму, когда выйдет? Я бы принес... - спросил Пенкин.
Обломов сделал отрицательный знак головой.
Ну, я вам свой рассказ пришлю?
Обломов кивнул в знак согласия...
Однако мне пора в типографию! - сказал Пенкин. - Я, знаете, зачем пришел к вам? Я хотел предложить вам ехать в Екатерингоф; у меня коляска. Мне завтра надо статью писать о гулянье: вместе бы наблюдать стали, чего бы не заметил я, вы бы сообщили мне; веселее бы было. Поедемте...
Нет, нездоровится, - сказал Обломов, морщась и прикрываясь одеялом, - сырости боюсь, теперь еще не высохло. А вот вы бы сегодня обедать пришли: мы бы поговорили... У меня два несчастья...
Нет, наша редакция вся у Сен-Жоржа сегодня, оттуда и поедем на гулянье. А ночью писать и чем свет в типографию отсылать. До свидания.
До свиданья, Пенкин.
«Ночью писать, - думал Обломов, - когда же спать-то? А поди, тысяч пять в год заработает! Это хлеб! Да писать-то все, тратить мысль, душу свою на мелочи, менять убеждения, торговать умом и воображением, насиловать свою натуру, волноваться, кипеть, гореть, не знать покоя и все куда-то двигаться... И все писать, все писать, как колесо, как машина: пиши завтра, послезавтра; праздник придет, лето настанет - а он все пиши? Когда же остановиться и отдохнуть? Несчастный!»
Он повернул голову к столу, где все было гладко, и чернила засохли, и пера не видать, и радовался, что лежит он, беззаботен, как новорожденный младенец, что не разбрасывается, не продает ничего...
«А письмо старосты, а квартира?» - вдруг вспомнил он и задумался.
Отец его, провинциальный подьячий старого времени, назначал было сыну в наследство искусство и опытность хождения по чужим делам и свое ловко пройденное поприще служения в присутственном месте; но судьба распорядилась иначе. Отец, учившийся сам когда-то по-русски на медные деньги, не хотел, чтоб сын его отставал от времени, и пожелал поучить чему-нибудь, кроме мудреной науки хождения по делам. Он года три посылал его к священнику учиться по-латыни.
Способный от природы мальчик в три года прошел латынскую грамматику и синтаксис и начал было разбирать Корнелия Непота, но отец решил, что довольно и того, что он знал, что уж и эти познания дают ему огромное преимущество над старым поколением и что, наконец, дальнейшие занятия могут, пожалуй, повредить службе в присутственных местах.
Шестнадцатилетний Михей, не зная, что делать с своей латынью, стал в доме родителей забывать ее, но зато, в ожидании чести присутствовать в земском или уездном суде, присутствовал пока на всех пирушках отца, и в этой-то школе, среди откровенных бесед, до тонкости развился ум молодого человека.
Он с юношескою впечатлительностью вслушивался в рассказы отца и товарищей его о разных гражданских и уголовных делах, о любопытных случаях, которые проходили через руки всех этих подьячих старого времени.
Но все это ни к чему не повело. Из Михея не выработался делец и крючкотворец, хотя все старания отца и клонились к этому и, конечно, увенчались бы успехом, если б судьба не разрушила замыслов старика. Михей действительно усвоил себе всю теорию отцовских бесед, оставалось только применить ее к делу, но за смертью отца он не успел поступить в суд и был увезен в Петербург каким-то благодетелем, который нашел ему место писца в одном департаменте, да потом и забыл о нем.
Так Тарантьев и остался только теоретиком на всю жизнь. В петербургской службе ему нечего было делать с своею латынью и с тонкой теорией вершить по своему произволу правые и неправые дела; а между тем он носил и сознавал в себе дремлющую силу, запертую в нем враждебными обстоятельствами навсегда, без надежды на проявление, как бывали запираемы, по сказкам, в тесных заколдованных стенах духи зла, лишенные силы вредить. Может быть, от этого сознания бесполезной силы в себе Тарантьев был груб в обращении, недоброжелателен, постоянно сердит и бранчив.
Он с горечью и презрением смотрел на свои настоящие занятия: на переписыванье бумаг, на подшиванье дел и т. п. Ему вдали улыбалась только одна последняя надежда: перейти служить по винным откупам.[ На этой дороге он видел единственную выгодную замену поприща, завещанного ему отцом и не достигнутого. А в ожидании этого готовая и созданная ему отцом теория деятельности и жизни, теория взяток и лукавства, миновав главное и достойное ее поприще в провинции, применилась ко всем мелочам его ничтожного существования в Петербурге, вкралась во все его приятельские отношения за недостатком официальных.
Он был взяточник в душе, по теории, ухитрялся брать взятки, за неимением дел и просителей, с сослуживцев, с приятелей, бог знает как и за что - заставлял, где и кого только мог, то хитростью, то назойливостью, угощать себя, требовал от всех незаслуженного уважения, был придирчив. Его никогда не смущал стыд за поношенное платье, но он не чужд был тревоги, если в перспективе дня не было у него громадного обеда, с приличным количеством вина и водки.
От этого он в кругу своих знакомых играл роль большой сторожевой собаки, которая лает на всех, не дает никому пошевелиться, но которая в то же время непременно схватит на лету кусок мяса, откуда и куда бы он ни летел.
Таковы были два самые усердные посетителя Обломова.
Зачем эти два русские пролетария ходили к нему? Они очень хорошо знали зачем: пить, есть, курить хорошие сигары. Они находили теплый, покойный приют и всегда одинаково если не радушный, то равнодушный прием.
Но зачем пускал их к себе Обломов - в этом он едва ли отдавал себе отчет. А кажется, затем, зачем еще о сю пору в наших отдаленных Обломовках, в каждом зажиточном доме толпится рой подобных лиц обоего пола, без хлеба, без ремесла, без рук для производительности и только с желудком для потребления, но почти всегда с чином и званием.
Есть еще сибариты, которым необходимы такие дополнения в жизни: им скучно без лишнего на свете. Кто подаст куда-то запропастившуюся табакерку или поднимет упавший на пол платок? Кому можно пожаловаться на головную боль с правом на участие, рассказать дурной сон и потребовать истолкования? Кто почитает книжку на сон грядущий и поможет заснуть? А иногда такой пролетарий посылается в ближайший город за покупкой, поможет по хозяйству - не самим же мыкаться!
Тарантьев делал много шума, выводил Обломова из неподвижности и скуки. Он кричал, спорил и составлял род какого-то спектакля, избавляя ленивого барина самого от необходимости говорить и делать. В комнату, где царствовал сон и покой, Тарантьев приносил жизнь, движение, а иногда и вести извне. Обломов мог слушать, смотреть, не шевеля пальцем, на что-то бойкое, движущееся и говорящее перед ним. Кроме того, он еще имел простодушие верить, что Тарантьев в самом деле способен посоветовать ему что-нибудь путное.
Посещения Алексеева Обломов терпел по другой, не менее важной причине. Если он хотел жить по-своему, то есть лежать молча, дремать или ходить по комнате, Алексеева как будто не было тут: он тоже молчал, дремал или смотрел в книгу, разглядывал с ленивой зевотой до слез картинки и вещицы. Он мог так пробыть хоть трои сутки. Если же Обломову наскучивало быть одному и он чувствовал потребность выразиться, говорить, читать, рассуждать, проявить волнение, - тут был всегда покорный и готовый слушатель и участник, разделявший одинаково согласно и его молчание, и его разговор, и волнение, и образ мыслей, каков бы он ни был.
Другие гости заходили нечасто, на минуту, как первые три гостя; с ними со всеми все более и более порывались живые связи. Обломов иногда интересовался какой-нибудь новостью, пятиминутным разговором, потом, удовлетворенный этим, молчал. Им надо было платить взаимностью, принимать участие в том, что их интересовало. Они купались в людской толпе; всякий понимал жизнь по-своему, как не хотел понимать ее Обломов, а они путали в нее и его; все это не нравилось ему, отталкивало его, было ему не по душе.
Был ему по сердцу один человек: тот тоже не давал ему покоя; он любил и новости, и свет, и науку, и всю жизнь, но как-то глубже, искреннее - и Обломов хотя был ласков со всеми, но любил искренно его одного, верил ему одному, может быть потому, что рос, учился и жил с ним вместе. Это Андрей Иванович Штольц.
Он был в отлучке, но Обломов ждал его с часу на час.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
СОН ОБЛОМОВА
Где мы? В какой благословенный уголок земли перенес нас сон Обломова? Что за чудный край!
Нет, правда, там моря, нет высоких гор, скал и пропастей, ни дремучих лесов - нет ничего грандиозного, дикого и угрюмого.
Да и зачем оно, это дикое и грандиозное? Море, например? Бог с ним! Оно наводит только грусть на человека: глядя на него, хочется плакать. Сердце смущается робостью перед необозримой пеленой вод, и не на чем отдохнуть взгляду, измученному однообразием бесконечной картины.
Рев и бешеные раскаты валов не нежат слабого слуха: они всё твердят свою, от начала мира одну и ту же песнь мрачного и неразгаданного содержания; и всё слышится в ней один и тот же стон, одни и те же жалобы будто обреченного на муку чудовища да чьи-то пронзительные, зловещие голоса. Птицы не щебечут вокруг; только безмолвные чайки, как осужденные, уныло носятся у прибрежья и кружатся над водой.
Бессилен рев зверя перед этими воплями природы, ничтожен и голос человека, и сам человек так мал, слаб, так незаметно исчезает в мелких подробностях широкой картины! От этого, может быть, так и тяжело ему смотреть на море.
Нет, Бог с ним, с морем! Самая тишина и неподвижность его не рождают отрадного чувства в душе: в едва заметном колебании водяной массы человек всё видит ту же необъятную, хотя и спящую, силу, которая подчас так ядовито издевается над его гордой волей и так глубоко хоронит его отважные замыслы, все его хлопоты и труды.
Горы и пропасти созданы тоже не для увеселения человека. Они грозны, страшны, как выпущенные и устремленные на него когти и зубы дикого зверя; они слишком живо напоминают нам бренный состав наш и держат в страхе и тоске за жизнь. И небо там, над скалами и пропастями, кажется таким далеким и недосягаемым, как будто оно отступилось от людей.
Не таков мирный уголок, где вдруг очутился наш герой.
Небо там, кажется, напротив, ближе жмется к земле, но не с тем, чтоб метать сильнее стрелы, а разве только, чтоб обнять ее покрепче, с любовью: оно распростерлось так невысоко над головой, как родительская надежная кровля, чтоб уберечь, кажется, избранный уголок от всяких невзгод.
Солнце там ярко и жарко светит около полугода и потом удаляется оттуда не вдруг, точно нехотя, как будто оборачивается назад взглянуть еще раз или два на любимое место и подарить ему осенью, среди ненастья, ясный, теплый день.
Горы там как будто только модели тех страшных где-то воздвигнутых гор, которые ужасают воображение. Это ряд отлогих холмов, с которых приятно кататься, резвясь, на спине или, сидя на них, смотреть в раздумье на заходящее солнце.
Река бежит весело, шаля и играя; она то разольется в широкий пруд, то стремится быстрой нитью, или присмиреет, будто задумавшись, и чуть-чуть ползет по камешкам, выпуская из себя по сторонам резвые ручьи, под журчанье которых сладко дремлется.
Весь уголок верст на пятнадцать или на двадцать вокруг представлял ряд живописных этюдов, веселых, улыбающихся пейзажей. Песчаные и отлогие берега светлой речки, подбирающийся с холма к воде мелкий кустарник, искривленный овраг с ручьем на дне и березовая роща - всё как будто было нарочно прибрано одно к одному и мастерски нарисовано.
Измученное волнениями или вовсе незнакомое с ними сердце так и просится спрятаться в этот забытый всеми уголок и жить никому не ведомым счастьем. Всё сулит там покойную, долговременную жизнь до желтизны волос и незаметную, сну подобную смерть.
Правильно и невозмутимо совершается там годовой круг.
По указанию календаря наступит в марте весна, побегут грязные ручьи с холмов, оттает земля и задымится теплым паром; скинет крестьянин полушубок, выйдет в одной рубашке на воздух и, прикрыв глаза рукой, долго любуется солнцем, с удовольствием пожимая плечами; потом он потянет опрокинутую вверх дном телегу то за одну, то за другую оглоблю или осмотрит и ударит ногой праздно лежащую под навесом соху, готовясь к обычным трудам.
Не возвращаются внезапные вьюги весной, не засыпают полей и не ломают снегом деревьев.
Зима, как неприступная, холодная красавица, выдерживает свой характер вплоть до узаконенной поры тепла; не дразнит неожиданными оттепелями и не гнет в три дуги неслыханными морозами; всё идет обычным, предписанным природой общим порядком.
В ноябре начинается снег и мороз, который к Крещенью усиливается до того, что крестьянин, выйдя на минуту из избы, воротится непременно с инеем на бороде; а в феврале чуткий нос уж чувствует в воздухе мягкое веянье близкой весны.
Но лето, лето особенно упоительно в том краю. Там надо искать свежего, сухого воздуха, напоенного - не лимоном и не лавром, а просто запахом полыни, сосны и черемухи; там искать ясных дней, слегка жгучих, но не палящих лучей солнца и почти в течение трех месяцев безоблачного неба.
Как пойдут ясные дни, то и длятся недели три-четыре; и вечер тепел там, и ночь душна. Звезды так приветливо, так дружески мигают с небес.
Дождь ли пойдет - какой благотворный летний дождь! Хлынет бойко, обильно, весело запрыгает, точно крупные и жаркие слезы внезапно обрадованного человека; а только перестанет - солнце уже опять с ясной улыбкой любви осматривает и сушит поля и пригорки; и вся сторона опять улыбается счастьем в ответ солнцу.
Радостно приветствует дождь крестьянин: «Дождичек вымочит, солнышко высушит!» - говорит он, подставляя с наслаждением под теплый ливень лицо, плечи и спину.
Грозы не страшны, а только благотворны там: бывают постоянно в одно и то же установленное время, не забывая почти никогда Ильина дня, как будто для того, чтоб поддержать известное предание в народе. И число и сила ударов, кажется, всякий год одни и те же, точно как будто из казны отпускалась на год на весь край известная мера электричества.
Ни страшных бурь, ни разрушений не слыхать в том краю.
В газетах ни разу никому не случилось прочесть чего-нибудь подобного об этом благословенном Богом уголке. И никогда бы ничего и не было напечатано, и не слыхали бы про этот край, если б только крестьянская вдова Марина Кулькова, двадцати восьми лет, не родила зараз четырех младенцев, о чем уже умолчать никак было нельзя.
Не наказывал Господь той стороны ни египетскими, ни простыми язвами. Никто из жителей не видал и не помнит никаких страшных небесных знамений, ни шаров огненных, ни внезапной темноты; не водится там ядовитых гадов; саранча не залетает туда; нет ни львов рыкающих, ни тигров ревущих, ни даже медведей и волков, потому что нет лесов. По полям и по деревне бродят только в обилии коровы жующие, овцы блеющие и куры кудахтающие.
Бог знает, удовольствовался ли бы поэт или мечтатель природой мирного уголка. Эти господа, как известно, любят засматриваться на луну да слушать щелканье соловьев. Любят они луну-кокетку, которая бы наряжалась в палевые облака да сквозила таинственно через ветви дерев или сыпала снопы серебряных лучей в глаза своим поклонникам.
А в этом краю никто и не знал, что за луна такая, - все называли ее месяцем. Она как-то добродушно, во все глаза смотрела на деревни и поле и очень походила на медный вычищенный таз.
Напрасно поэт стал бы глядеть восторженными глазами на нее: она так же бы простодушно глядела и на поэта, как круглолицая деревенская красавица глядит в ответ на страстные и красноречивые взгляды городского волокиты.
Соловьев тоже не слыхать в том краю, может быть, оттого, что не водилось там тенистых приютов и роз; но зато какое обилие перепелов! Летом, при уборке хлеба, мальчишки ловят их руками.
Да не подумают, однако ж, чтоб перепела составляли там предмет гастрономической роскоши, - нет, такое развращение не проникло в нравы жителей того края: перепел - птица, уставом в пищу не показанная. Она там услаждает людской слух пением: оттого почти в каждом дому под кровлей в нитяной клетке висит перепел.
Поэт и мечтатель не остались бы довольны даже общим видом этой скромной и незатейливой местности. Не удалось бы им там видеть какого-нибудь вечера в швейцарском или шотландском вкусе, когда вся природа - и лес, и вода, и стены хижин, и песчаные холмы - всё горит точно багровым заревом; когда по этому багровому фону резко оттеняется едущая по песчаной извилистой дороге кавалькада мужчин, сопутствующих какой-нибудь леди в прогулках к угрюмой развалине или поспешающих в крепкий замок, где их ожидает эпизод о войне двух роз, рассказанный дедом, дикая коза на ужин да пропетая молодою мисс под звуки лютни баллада - картины, которыми так богато населило наше воображение перо Вальтера Скотта.
Нет, этого ничего не было в нашем краю.
Как всё тихо, всё сонно в трех-четырех деревеньках, составляющих этот уголок! Они лежали недалеко друг от друга и были как будто случайно брошены гигантской рукой и рассыпались в разные стороны, да так с тех пор и остались.
Как одна изба попала на обрыв оврага, так и висит там с незапамятных времен, стоя одной половиной на воздухе и подпираясь тремя жердями. Три-четыре поколения тихо и счастливо прожили в ней.
Кажется, курице страшно бы войти в нее, а там живет с женой Онисим Суслов, мужчина солидный, который не уставится во весь рост в своем жилище.
Не всякий и сумеет войти в избу к Онисиму; разве только что посетитель упросит ее стать к лесу задом, а к нему передом .
Крыльцо висело над оврагом, и, чтоб попасть на крыльцо ногой, надо было одной рукой ухватиться за траву, другой за кровлю избы и потом шагнуть прямо на крыльцо.
Другая изба прилепилась к пригорку, как ласточкино гнездо; там три очутились случайно рядом, а две стоят на самом дне оврага.
Тихо и сонно всё в деревне: безмолвные избы отворены настежь; не видно ни души; одни мухи тучами летают и жужжат в духоте.
Войдя в избу, напрасно станешь кликать громко: мертвое молчание будет ответом: в редкой избе отзовется болезненным стоном или глухим кашлем старуха, доживающая свой век на печи, или появится из-за перегородки босой длинноволосый трехлетний ребенок в одной рубашонке, молча, пристально поглядит на вошедшего и робко спрячется опять.
Та же глубокая тишина и мир лежат и на полях; только кое-где, как муравей, гомозится на черной ниве палимый зноем пахарь, налегая на соху и обливаясь потом.
Тишина и невозмутимое спокойствие царствуют в нравах людей в том краю. Ни грабежей, ни убийств, никаких страшных случайностей не бывало там; ни сильные страсти, ни отважные предприятия не волновали их.
И какие бы страсти и предприятия могли волновать их? Всякий знал там самого себя. Обитатели этого края далеко жили от других людей. Ближайшие деревни и уездный город были верстах в двадцати пяти и тридцати.
Крестьяне в известное время возили хлеб на ближайшую пристань к Волге, которая была их Колхидой и геркулесовыми столпами, да раз в год ездили некоторые на ярмарку, и более никаких сношений ни с кем не имели.
Интересы их были сосредоточены на них самих, не перекрещивались и не соприкасались ни с чьими.
Они знали, что в восьмидесяти верстах от них была «губерния», то есть губернский город, но редкие езжали туда; потом знали, что подальше, там, Саратов или Нижний; слыхали, что есть Москва и Питер, что за Питером живут французы или немцы, а далее уже начинался для них, как для древних, темный мир, неизвестные страны, населенные чудовищами, людьми о двух головах, великанами; там следовал мрак - и, наконец, всё оканчивалось той рыбой, которая держит на себе землю.
И как уголок их был почти непроезжий, то и неоткуда было почерпать новейших известий о том, что делается на белом свете: обозники с деревянной посудой жили только в двадцати верстах и знали не больше их. Не с чем даже было сличить им своего житья-бытья; хорошо ли они живут, нет ли; богаты ли они, бедны ли; можно ли было чего еще пожелать, что есть у других.
Счастливые люди жили, думая, что иначе и не должно и не может быть, уверенные, что и все другие живут точно так же и что жить иначе - грех.
Они бы и не поверили, если б сказали им, что другие как-нибудь иначе пашут, сеют, жнут, продают. Какие же страсти и волнения могли быть у них?
У них, как и у всех людей, были и заботы, и слабости, взнос подати или оброка, лень и сон; но всё это обходилось им дешево, без волнений крови.
В последние пять лет из нескольких сот душ не умер никто, не то что насильственною, даже естественною смертью.
А если кто от старости или от какой-нибудь застарелой болезни и почил вечным сном, то там долго после того не могли надивиться такому необыкновенному случаю.
Между тем им нисколько не показалось удивительно, как это, например, кузнец Тарас чуть было собственноручно не запарился до смерти в землянке, до того, что надо было отливать его водой.
Из преступлений одно, именно кража гороху, моркови и репы по огородам, было в большом ходу, да однажды вдруг исчезли два поросенка и курица - происшествие, возмутившее весь околоток и приписанное единогласно проходившему накануне обозу с деревянной посудой на ярмарку. А то вообще случайности всякого рода были весьма редки.
Однажды, впрочем, еще найден был лежащий за околицей, в канаве, у моста, видно, отставший от проходившей в город артели человек.
Мальчишки первые заметили его и с ужасом прибежали в деревню с вестью о каком-то страшном змее или оборотне, который лежит в канаве, прибавив, что он погнался за ними и чуть не съел Кузьку.
Куда вас несет? - унимали старики. - Аль шея-то крепка? Чего вам надо? Не замайте: вас не гонят.
Но мужики пошли и сажен за пятьдесят до места стали окликать чудовище разными голосами: ответа не было; они остановились; потом опять двинулись.
В канаве лежал мужик, опершись головой в пригорок; около него валялись мешок и палка, на которой навешаны были две пары лаптей.
Мужики не решались ни подходить близко, ни трогать.
Эй! Ты, брат! - кричали они по очереди, почесывая кто затылок, кто спину. - Как там тебя? Эй, ты! Что тебе тут?
Прохожий сделал движение, чтоб приподнять голову, но не мог: он, по-видимому, был нездоров или очень утомлен.
Один решился было тронуть его вилой.
Не замай! Не замай! - закричали многие. - Почем знать, какой он: ишь, не бает ничего: может быть, какой-нибудь такой... Не замайте его, ребята!
Пойдем, - говорили некоторые, - право-слово, пойдем: что он нам, дядя, что ли? Только беды с ним!
И все ушли назад, в деревню, рассказав старикам, что там лежит нездешний, ничего не бает, и Бог его ведает, что он там...
Нездешний, так и не замайте! - говорили старики, сидя на завалинке и положив локти на коленки. - Пусть его себе! И ходить не по что было вам!
Таков был уголок, куда вдруг перенесся во сне Обломов.
Из трех или четырех разбросанных там деревень была одна Сосновка, другая Вавиловка, в одной версте друг от друга.
Сосновка и Вавиловка были наследственной отчиной рода Обломовых и оттого известны были под общим именем Обломовки.
В Сосновке была господская усадьба и резиденция. Верстах в пяти от Сосновки лежало сельцо Верхлёво, тоже принадлежавшее некогда фамилии Обломовых и давно перешедшее в другие руки, и еще несколько причисленных к этому же селу кое-где разбросанных изб.
Село принадлежало богатому помещику, который никогда не показывался в свое имение: им заведовал управляющий из немцев.
Вот и вся география этого уголка.
Илья Ильич проснулся утром в своей маленькой постельке. Ему только семь лет. Ему легко, весело.
Какой он хорошенький, красненький, полный! Щечки такие кругленькие, что иной шалун надуется нарочно, а таких не сделает.
Няня ждет его пробуждения. Она начинает натягивать ему чулочки; он не дается, шалит, болтает ногами; няня ловит его, и оба они хохочут.
Наконец удалось ей поднять его на ноги; она умывает его, причесывает головку и ведет к матери.
Обломов, увидев давно умершую мать, и во сне затрепетал от радости, от жаркой любви к ней: у него, у сонного, медленно выплыли из-под ресниц и стали неподвижно две теплые слезы.
Мать осыпала его страстными поцелуями, потом осмотрела его жадными, заботливыми глазами, не мутны ли глазки, спросила, не болит ли что-нибудь, расспросила няньку, покойно ли он спал, не просыпался ли ночью, не метался ли во сне, не было ли у него жару? Потом взяла его за руку и подвела к образу.
Там, став на колени и обняв его одной рукой, подсказывала она ему слова молитвы.
Мальчик рассеянно повторял их, глядя в окно, откуда лилась в комнату прохлада и запах сирени.
Мы, маменька, сегодня пойдем гулять? - вдруг спрашивал он среди молитвы.
Пойдем, душенька, - торопливо говорила она, не отводя от иконы глаз и спеша договорить святые слова.
Мальчик вяло повторял их, но мать влагала в них всю свою душу.
Потом шли к отцу, потом к чаю.
Около чайного стола Обломов увидал живущую у них престарелую тетку, восьмидесяти лет, беспрерывно ворчавшую на свою девчонку, которая, тряся от старости головой, прислуживала ей, стоя за ее стулом. Там и три пожилые девушки, дальние родственницы отца его, и немного помешанный деверь его матери, и помещик семи душ, Чекменев, гостивший у них, и еще какие-то старушки и старички.
Весь этот штат и свита дома Обломовых подхватили на руки Илью Ильича и начали осыпать его ласками и похвалами; он едва успевал утирать следы непрошеных поцелуев.
После того начиналось кормление его булочками, сухариками, сливочками.
Потом мать, приласкав его еще, отпускала гулять в сад, по двору, на луг, с строгим подтверждением няньке не оставлять ребенка одного, не допускать к лошадям, к собакам, к козлу, не уходить далеко от дома, а главное, не пускать его в овраг, как самое страшное место в околотке, пользовавшееся дурною репутацией.
Там нашли однажды собаку, признанную бешеною потому только, что она бросилась от людей прочь, когда на нее собрались с вилами и топорами, и исчезла где-то за горой; в овраг свозили падаль; в овраге предполагались и разбойники, и волки, и разные другие существа, которых или в том краю, или совсем на свете не было.
Ребенок не дождался предостережений матери: он уж давно на дворе.
Он с радостным изумлением, как будто в первый раз, осмотрел и обежал кругом родительский дом с покривившимися набок воротами, с севшей на середине деревянной кровлей, на которой рос нежный зеленый мох, с шатающимся крыльцом, разными пристройками и настройками и с запущенным садом.
Ему страсть хочется взбежать на огибавшую весь дом висячую галерею, чтоб посмотреть оттуда на речку; но галерея ветха, чуть-чуть держится, и по ней дозволяется ходить только «людям», а господа не ходят.
Он не внимал запрещениям матери и уже направился было к соблазнительным ступеням, но на крыльце показалась няня и кой-как поймала его.
Он бросился от нее к сеновалу, с намерением взобраться туда по крутой лестнице, и едва она поспевала дойти до сеновала, как уж надо было спешить разрушать его замыслы влезть на голубятню, проникнуть на скотный двор и, чего Боже сохрани! - в овраг.
Ах ты, Господи, что за ребенок, за юла за такая! Да посидишь ли ты смирно, сударь? Стыдно! - говорила нянька.
И целый день, и все дни и ночи няни наполнены были суматохой, беготней: то пыткой, то живой радостью за ребенка, то страхом, что он упадет и расшибет нос, то умилением от его непритворной детской ласки или смутной тоской за отдаленную его будущность: этим только и билось сердце ее, этими волнениями подогревалась кровь старухи, и поддерживалась кое-как ими сонная жизнь ее, которая без того, может быть, угасла бы давным-давно.
Не всё резв, однако ж, ребенок: он иногда вдруг присмиреет, сидя подле няни, и смотрит на всё так пристально. Детский ум его наблюдает все совершающиеся перед ним явления; они западают глубоко в душу его, потом растут и зреют вместе с ним.
Утро великолепное; в воздухе прохладно; солнце еще невысоко. От дома, от деревьев, и от голубятни, и от галереи - от всего побежали далеко длинные тени. В саду и на дворе образовались прохладные уголки, манящие к задумчивости и сну. Только вдали поле с рожью точно горит огнем, да речка так блестит и сверкает на солнце, что глазам больно.
Отчего это, няня, тут темно, а там светло, а ужо будет и там светло? - спрашивал ребенок.
Оттого, батюшка, что солнце идет навстречу месяцу и не видит его, так и хмурится; а ужо как завидит издали, так и просветлеет.
Задумывается ребенок и всё смотрит вокруг: видит он, как Антип поехал за водой, а по земле, рядом с ним, шел другой Антип, вдесятеро больше настоящего, и бочка казалась с дом величиной, а тень лошади покрыла собой весь луг, тень шагнула только два раза по лугу и вдруг двинулась за гору, а Антип еще и со двора не успел съехать.
Ребенок тоже шагнул раза два, еще шаг - и он уйдет за гору.
Ему хотелось бы к горе, посмотреть, куда делась лошадь. Он к воротам, но из окна послышался голос матери:
Няня! Не видишь, что ребенок выбежал на солнышко! Уведи его в холодок; напечет ему головку - будет болеть, тошно сделается, кушать не станет. Он этак у тебя в овраг уйдет!
У! баловень! - тихо ворчит нянька, утаскивая его на крыльцо.
Смотрит ребенок и наблюдает острым и переимчивым взглядом, как и что делают взрослые, чему посвящают они утро.
Ни одна мелочь, ни одна черта не ускользает от пытливого внимания ребенка; неизгладимо врезывается в душу картина домашнего быта; напитывается мягкий ум живыми примерами и бессознательно чертит программу своей жизни по жизни, его окружающей.
Нельзя сказать, чтоб утро пропадало даром в доме Обломовых. Стук ножей, рубивших котлеты и зелень в кухне, долетал даже до деревни.
Из людской слышалось шипенье веретена да тихий, тоненький голос бабы: трудно было распознать, плачет ли она или импровизирует заунывную песню без слов.
На дворе, как только Антип воротился с бочкой, из разных углов поползли к ней с ведрами, корытами и кувшинами бабы, кучера.
А там старуха пронесет из амбара в кухню чашку с мукой да кучу яиц; там повар вдруг выплеснет воду из окошка и обольет Арапку, которая целое утро, не сводя глаз, смотрит в окно, ласково виляя хвостом и облизываясь.
Сам Обломов-старик тоже не без занятий. Он целое утро сидит у окна и неукоснительно наблюдает за всем, что делается на дворе.
Эй, Игнашка? Что несешь, дурак? - спросит он идущего по двору человека.
Несу ножи точить в людскую, - отвечает тот, не взглянув на барина.
Ну неси, неси, да хорошенько, смотри, наточи!
Потом остановит бабу:
Эй, баба! Баба! Куда ходила?
В погреб, батюшка, - говорила она, останавливаясь, и, прикрыв глаза рукой, глядела на окно, - молока к столу достать.
Ну иди, иди! - отвечал барин. - Да смотри, не пролей молоко-то. - А ты, Захарка, постреленок, куда опять бежишь? - кричал потом. - Вот я тебе дам бегать! Уж я вижу, что ты это в третий раз бежишь. Пошел назад, в прихожую!
И Захарка шел опять дремать в прихожую.
Придут ли коровы с поля, старик первый позаботится, чтоб их напоили; завидит ли из окна, что дворняжка преследует курицу, тотчас примет строгие меры против беспорядков.
И жена его сильно занята: она часа три толкует с Аверкой, портным, как из мужниной фуфайки перешить Илюше курточку, сама рисует мелом и наблюдает, чтоб Аверка не украл сукна; потом перейдет в девичью, задаст каждой девке, сколько сплести в день кружев; потом позовет с собой Настасью Ивановну, или Степаниду Агаповну, или другую из своей свиты погулять по саду с практической целью: посмотреть, как наливается яблоко, не упало ли вчерашнее, которое уж созрело; там привить, там подрезать и т. п.
Но главною заботою была кухня и обед. Об обеде совещались целым домом; и престарелая тетка приглашалась к совету. Всякий предлагал свое блюдо: кто суп с потрохами, кто лапшу или желудок, кто рубцы, кто красную, кто белую подливку к соусу.
Всякий совет принимался в соображение, обсуживался обстоятельно и потом принимался или отвергался по окончательному приговору хозяйки.
На кухню посылались беспрестанно то Настасья Петровна, то Степанида Ивановна напомнить о том, прибавить это или отменить то, отнести сахару, меду, вина для кушанья и посмотреть, всё ли положит повар, что отпущено.
Забота о пище была первая и главная жизненная забота в Обломовке. Какие телята утучнялись там к годовым праздникам! Какая птица воспитывалась! Сколько тонких соображений, сколько знания и забот в ухаживанье за нею! Индейки и цыплята, назначаемые к именинам и другим торжественным дням, откармливались орехами; гусей лишали моциона, заставляли висеть в мешке неподвижно за несколько дней до праздника, чтоб они заплыли жиром. Какие запасы были там варений, солений, печений! Какие меды, какие квасы варились, какие пироги пеклись в Обломовке!
И так до полудня всё суетилось и заботилось, всё жило такою полною, муравьиною, такою заметною жизнью.
В воскресенье и в праздничные дни тоже не унимались эти трудолюбивые муравьи: тогда стук ножей на кухне раздавался чаще и сильнее; баба совершала несколько раз путешествие из амбара в кухню с двойным количеством муки и яиц; на птичьем дворе было более стонов и кровопролитий. Пекли исполинский пирог, который сами господа ели еще на другой день; на третий и четвертый день остатки поступали в девичью; пирог доживал до пятницы, так что один совсем черствый конец, без всякой начинки, доставался, в виде особой милости, Антипу, который, перекрестясь, с треском неустрашимо разрушал эту любопытную окаменелость, наслаждаясь более сознанием, что это господский пирог, нежели самым пирогом, как археолог, с наслаждением пьющий дрянное вино из черепка какой-нибудь тысячелетней посуды.
А ребенок всё смотрел и всё наблюдал своим детским, ничего не пропускающим умом. Он видел, как после полезно и хлопотливо проведенного утра наставал полдень и обед.
Полдень знойный; на небе ни облачка. Солнце стоит неподвижно над головой и жжет траву. Воздух перестал струиться и висит без движения. Ни дерево, ни вода не шелохнутся; над деревней и полем лежит невозмутимая тишина - всё как будто вымерло. Звонко и далеко раздается человеческий голос в пустоте. В двадцати саженях слышно, как пролетит и прожужжит жук, да в густой траве кто-то всё храпит, как будто кто-нибудь завалился туда и спит сладким сном.
И в доме воцарилась мертвая тишина. Наступил час всеобщего послеобеденного сна.
Ребенок видит, что и отец, и мать, и старая тетка, и свита - все разбрелись по своим углам; а у кого не было его, тот шел на сеновал, другой в сад, третий искал прохлады в сенях, а иной, прикрыв лицо платком от мух, засыпал там, где сморила его жара и повалил громоздкий обед. И садовник растянулся под кустом в саду, подле своей пешни, и кучер спал на конюшне.
Илья Ильич заглянул в людскую: в людской все легли вповалку, по лавкам, по полу и в сенях, предоставив ребятишек самим себе; ребятишки ползают по двору и роются в песке. И собаки далеко залезли в конуры, благо не на кого было лаять.
Можно было пройти по всему дому насквозь и не встретить ни души; легко было обокрасть всё кругом и свезти со двора на подводах: никто не помешал бы, если б только водились воры в том краю.
Это был какой-то всепоглощающий, ничем непобедимый сон, истинное подобие смерти. Всё мертво, только из всех углов несется разнообразное храпенье на все тоны и лады.
Изредка кто-нибудь вдруг поднимет со сна голову, посмотрит бессмысленно, с удивлением, на обе стороны и перевернется на другой бок или, не открывая глаз, плюнет спросонья и, почавкав губами или поворчав что-то под нос себе, опять заснет.
А другой быстро, без всяких предварительных приготовлений, вскочит обеими ногами с своего ложа, как будто боясь потерять драгоценные минуты, схватит кружку с квасом и, подув на плавающих там мух, так, чтоб их отнесло к другому краю, отчего мухи, до тех пор неподвижные, сильно начинают шевелиться, в надежде на улучшение своего положения, промочит горло и потом падает опять на постель как подстреленный.
А ребенок всё наблюдал да наблюдал.
Он с няней после обеда опять выходил на воздух. Но и няня, несмотря на всю строгость наказов барыни и на свою собственную волю, не могла противиться обаянию сна. Она тоже заражалась этой господствовавшей в Обломовке повальной болезнью.
Сначала она бодро смотрела за ребенком, не пускала далеко от себя, строго ворчала за резвость, потом, чувствуя симптомы приближавшейся заразы, начинала упрашивать не ходить за ворота, не затрогивать козла, не лазить на голубятню или галерею.
Сама она усаживалась где-нибудь в холодке: на крыльце, на пороге погреба или просто на травке, по-видимому, с тем, чтоб вязать чулок и смотреть за ребенком. Но вскоре она лениво унимала его, кивая головой.
«Влезет, ах, того и гляди влезет эта юла на галерею, - думала она почти сквозь сон, - или еще... как бы в овраг...»
Тут голова старухи клонилась к коленям, чулок выпадал из рук; она теряла из виду ребенка и, открыв немного рот, испускала легкое храпенье.
А он с нетерпением дожидался этого мгновения, с которым начиналась его самостоятельная жизнь.
Он был как будто один в целом мире; он на цыпочках убегал от няни, осматривал всех, кто где спит; остановится и смотрит пристально, как кто очнется, плюнет или промычит что-то во сне; потом с замирающим сердцем взбегал на галерею, обегал по скрипучим доскам кругом, лазил на голубятню, забирался в глушь сада, слушал, как жужжит жук, и далеко следил глазами его полет в воздухе; прислушивался, как кто-то всё стрекочет в траве, искал и ловил нарушителей этой тишины; поймает стрекозу, оторвет ей крылья и смотрит, что из нее будет, или проткнет сквозь нее соломинку и следит, как она летает с этим прибавлением; с наслаждением, боясь дохнуть, наблюдает за пауком, как он сосет кровь пойманной мухи, как бедная жертва бьется и жужжит у него в лапах. Ребенок кончит тем, что убьет и жертву, и мучителя.
Потом он заберется в канаву, роется, отыскивает какие-то корешки, очищает от коры и ест всласть, предпочитая яблокам и варенью, которые дает маменька.
Он выбежит и за ворота: ему бы хотелось в березняк; он так близко кажется ему, что вот он в пять минут добрался бы до него, не кругом, по дороге, а прямо, через канаву, плетни и ямы; но он боится: там, говорят, и лешие, и разбойники, и страшные звери.
Хочется ему и в овраг сбегать: он всего саженях в пятидесяти от сада; ребенок уж прибежал к краю, зажмурил глаза, хотел заглянуть, как в кратер вулкана... но вдруг перед ним восстали все толки и предания об этом овраге: его объял ужас, и он, ни жив ни мертв, мчится назад и, дрожа от страха, бросился к няньке и разбудил старуху.
Она вспрянула от сна, поправила платок на голове, подобрала под него пальцем клочки седых волос и, притворяясь, что будто не спала совсем, подозрительно поглядывает на Илюшу, потом на барские окна и начинает дрожащими пальцами тыкать одну в другую спицы чулка, лежавшего у нее на коленях.
Между тем жара начала понемногу спадать; в природе стало всё поживее; солнце уже подвинулось к лесу.
И в доме мало-помалу нарушалась тишина: в одном углу где-то скрипнула дверь; послышались по двору чьи-то шаги; на сеновале кто-то чихнул.
Вскоре из кухни торопливо пронес человек, нагибаясь от тяжести, огромный самовар. Начали собираться к чаю: у кого лицо измято и глаза заплыли слезами; тот належал себе красное пятно на щеке и висках; третий говорит со сна не своим голосом. Всё это сопит, охает, зевает, почесывает голову и разминается, едва приходя в себя.
Обед и сон рождали неутолимую жажду. Жажда палит горло; выпивается чашек по двенадцати чаю, но это не помогает: слышится оханье, стенанье; прибегают к брусничной, к грушевой воде, к квасу, а иные и к врачебному пособию, чтоб только залить засуху в горле.
Все искали освобождения от жажды, как от какого-нибудь наказания Господня; все мечутся, все томятся, точно караван путешественников в аравийской степи, не находящий нигде ключа воды.
Ребенок тут, подле маменьки: он вглядывается в странные окружающие его лица, вслушивается в их сонный и вялый разговор. Весело ему смотреть на них, любопытен кажется ему всякий сказанный ими вздор.
После чая все займутся чем-нибудь: кто пойдет к речке и тихо бродит по берегу, толкая ногой камешки в воду; другой сядет к окну и ловит глазами каждое мимолетное явление: пробежит ли кошка по двору, пролетит ли галка, наблюдатель и ту, и другую преследует взглядом и кончиком своего носа, поворачивая голову то направо, то налево. Так иногда собаки любят сидеть по целым дням на окне, подставляя голову под солнышко и тщательно оглядывая всякого прохожего.
Мать возьмет голову Илюши, положит к себе на колени и медленно расчесывает ему волосы, любуясь мягкостью их и заставляя любоваться и Настасью Ивановну, и Степаниду Тихоновну, и разговаривает с ними о будущности Илюши, ставит его героем какой-нибудь созданной ею блистательной эпопеи. Те сулят ему золотые горы.
Но вот начинает смеркаться. На кухне опять трещит огонь, опять раздается дробный стук ножей: готовится ужин.
Дворня собралась у ворот: там слышится балалайка, хохот. Люди играют в горелки.
А солнце уж опускалось за лес; оно бросало несколько чуть-чуть теплых лучей, которые прорезывались огненной полосой через весь лес, ярко обливая золотом верхушки сосен. Потом лучи гасли один за другим; последний луч оставался долго; он, как тонкая игла, вонзился в чащу ветвей; но и тот потух.
Предметы теряли свою форму; всё сливалось сначала в серую, потом в темную массу. Пение птиц постепенно ослабевало; вскоре они совсем замолкли, кроме одной какой-то упрямой, которая, будто наперекор всем, среди общей тишины одна монотонно чирикала с промежутками, но всё реже и реже, и та наконец свистнула слабо, незвучно, в последний раз, встрепенулась, слегка пошевелив листья вокруг себя... и заснула.
Всё смолкло. Одни кузнечики взапуски трещали сильнее. Из земли поднялись белые пары и разостлались по лугу и по реке. Река тоже присмирела; немного погодя и в ней вдруг кто-то плеснул еще в последний раз, и она стала неподвижна.
Запахло сыростью. Становилось всё темнее и темнее. Деревья сгруппировались в каких-то чудовищ; в лесу стало страшно: там кто-то вдруг заскрипит, точно одно из чудовищ переходит с своего места на другое, и сухой сучок, кажется, хрустит под его ногой.
На небе ярко сверкнула, как живой глаз, первая звездочка, и в окнах дома замелькали огоньки.
Настали минуты всеобщей, торжественной тишины природы, те минуты, когда сильнее работает творческий ум, жарче кипят поэтические думы, когда в сердце живее вспыхивает страсть или больнее ноет тоска, когда в жестокой душе невозмутимее и сильнее зреет зерно преступной мысли и когда... в Обломовке все почивают так крепко и покойно.
Пойдем, мама, гулять, - говорит Илюша.
Что ты, Бог с тобой! Теперь гулять, - отвечает она, - сыро, ножки простудишь; и страшно: в лесу теперь леший ходит, он уносит маленьких детей.
Куда он уносит? Какой он бывает? Где живет? - спрашивает ребенок.
И мать давала волю своей необузданной фантазии.
Ребенок слушал ее, открывая и закрывая глаза, пока наконец сон не сморит его совсем. Приходила нянька и, взяв его с коленей матери, уносила сонного, с повисшей через ее плечо головой, в постель.
Вот день-то и прошел, и слава Богу! - говорили обломовцы, ложась в постель, кряхтя и осеняя себя крестным знамением. - Прожили благополучно; дай Бог и завтра так! Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи!
Потом Обломову приснилась другая пора: он в бесконечный зимний вечер робко жмется к няне, а она нашептывает ему о какой-то неведомой стороне, где нет ни ночей, ни холода, где всё совершаются чудеса, где текут реки меду и молока, где никто ничего круглый год не делает, а день-деньской только и знают, что гуляют всё добрые молодцы, такие как Илья Ильич, да красавицы, что ни в сказке сказать ни пером описать.
Там есть и добрая волшебница, являющаяся у нас иногда в виде щуки, которая изберет себе какого-нибудь любимца, тихого, безобидного, другими словами, какого-нибудь лентяя, которого все обижают, да и осыпает его, ни с того ни с сего, разным добром, а он знай кушает себе да наряжается в готовое платье, а потом женится на какой-нибудь неслыханной красавице Милитрисе Кирбитьевне.
Ребенок, навострив уши и глаза, страстно впивался в рассказ.
Нянька или предание так искусно избегали в рассказе всего, что существует на самом деле, что воображение и ум, проникшись вымыслом, оставались уже у него в рабстве до старости. Нянька с добродушием повествовала сказку о Емеле-дурачке, эту злую и коварную сатиру на наших прадедов, а может быть, еще и на нас самих.
Взрослый Илья Ильич хотя после и узнает, что нет медовых и молочных рек, нет добрых волшебниц, хотя и шутит он с улыбкой над сказаниями няни, но улыбка эта не искренняя, она сопровождается тайным вздохом: сказка у него смешалась с жизнью, и он бессознательно грустит подчас, зачем сказка не жизнь, а жизнь не сказка.
Он невольно мечтает о Милитрисе Кирбитьевне; его всё тянет в ту сторону, где только и знают, что гуляют, где нет забот и печалей; у него навсегда остается расположение полежать на печи, походить в готовом, незаработанном платье и поесть на счет доброй волшебницы.
И старик Обломов, и дед выслушивали в детстве те же сказки, прошедшие в стереотипном издании старины, в устах нянек и дядек, сквозь века и поколения.
Няня между тем уж рисует другую картину воображению ребенка.
Она повествует ему о подвигах наших Ахиллов и Улиссов, об удали Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича, о Полкане-богатыре, о Колечище прохожем , о том, как они странствовали по Руси, побивали несметные полчища басурманов, как состязались в том, кто одним духом выпьет чару зелена вина и не крякнет; потом говорила о злых разбойниках, о спящих царевнах, окаменелых городах и людях; наконец, переходила к нашей демонологии, к мертвецам, к чудовищам и к оборотням.
Она с простотою и добродушием Гомера, с тою же животрепещущею верностью подробностей и рельефностью картин влагала в детскую память и воображение илиаду русской жизни, созданную нашими гомеридами тех туманных времен, когда человек еще не ладил с опасностями и тайнами природы и жизни, когда он трепетал и перед оборотнем, и перед лешим и у Алеши Поповича искал защиты от окружавших его бед, когда и в воздухе, и в воде, и в лесу, и в поле царствовали чудеса.
Страшна и неверна была жизнь тогдашнего человека; опасно было ему выйти за порог дома: его, того гляди, запорет зверь, зарежет разбойник, отнимет у него всё злой татарин, или пропадет человек без вести, без всяких следов.
А то вдруг явятся знамения небесные, огненные столпы да шары; а там, над свежей могилой, вспыхнет огонек, или в лесу кто-то прогуливается, будто с фонарем, да страшно хохочет и сверкает глазами в темноте.
И с самим человеком творилось столько непонятного: живет-живет человек долго и хорошо - ничего, да вдруг заговорит такое непутное, или учнет кричать не своим голосом, или бродить сонный по ночам; другого, ни с того ни с сего, начнет коробить и бить оземь. А перед тем как сделаться этому, только что курица прокричала петухом да ворон прокаркал над крышей.
Терялся слабый человек, с ужасом озираясь в жизни, и искал в воображении ключа к таинствам окружающей его и своей собственной природы.
А, может быть, сон, вечная тишина вялой жизни и отсутствие движения и всяких действительных страхов, приключений и опасностей заставляли человека творить среди естественного мира другой, несбыточный и в нем искать разгула и потехи праздному воображению или разгадки обыкновенных сцеплений обстоятельств и причин явления вне самого явления.
Ощупью жили бедные предки наши; не окрыляли и не сдерживали они своей воли, а потом наивно дивились или ужасались неудобству, злу и допрашивались причин у немых, неясных иероглифов природы.
Смерть у них приключалась от вынесенного перед тем из дома покойника головой, а не ногами из ворот; пожар - от того, что собака выла три ночи под окном; и они хлопотали, чтоб покойника выносили ногами из ворот, а ели всё то же, по стольку же и спали по-прежнему на голой траве; воющую собаку били или сгоняли со двора, а искры от лучины все-таки сбрасывали в трещину гнилого пола.
И поныне русский человек среди окружающей его строгой, лишенной вымысла действительности любит верить соблазнительным сказаниям старины, и долго, может быть, еще не отрешиться ему от этой веры.
Слушая от няни сказки о нашем золотом руне - Жар-птице , о преградах и тайниках волшебного замка, мальчик то бодрился, воображая себя героем подвига, - и мурашки бегали у него по спине, то страдал за неудачи храбреца.
Рассказ лился за рассказом. Няня повествовала с пылом, живописно, с увлечением, местами вдохновенно, потому что сама вполовину верила рассказам. Глаза старухи искрились огнем; голова дрожала от волнения; голос возвышался до непривычных нот.
Ребенок, объятый неведомым ужасом, жался к ней со слезами на глазах.
Заходила ли речь о мертвецах, поднимающихся в полночь из могил, или о жертвах, томящихся в неволе у чудовища, или о медведе с деревянной ногой, который идет по селам и деревням отыскивать отрубленную у него натуральную ногу, - волосы ребенка трещали на голове от ужаса; детское воображение то застывало, то кипело; он испытывал мучительный, сладко болезненный процесс; нервы напрягались, как струны.
Когда нянька мрачно повторяла слова медведя: «Скрипи, скрипи, нога липовая; я по селам шел, по деревне шел, все бабы спят, одна баба не спит, на моей шкуре сидит, мое мясо варит, мою шерстку прядет» и т. д.; когда медведь входил наконец в избу и готовился схватить похитителя своей ноги, ребенок не выдерживал: он с трепетом и визгом бросался на руки к няне; у него брызжут слезы испуга, и вместе хохочет он от радости, что он не в когтях у зверя, а на лежанке, подле няни.
Населилось воображение мальчика странными призраками; боязнь и тоска засели надолго, может быть навсегда, в душу. Он печально озирается вокруг и всё видит в жизни вред, беду, всё мечтает о той волшебной стороне, где нет зла, хлопот, печалей, где живет Милитриса Кирбитьевна, где так хорошо кормят и одевают даром...
Сказка не над одними детьми в Обломовке, но и над взрослыми до конца жизни сохраняет свою власть. Все в доме и в деревне, начиная от барина, жены его и до дюжего кузнеца Тараса, - все трепещут чего-то в темный вечер: всякое дерево превращается тогда в великана, всякий куст - в вертеп разбойников.
Стук ставни и завыванье ветра в трубе заставляли бледнеть и мужчин, и женщин, и детей. Никто в Крещенье не выйдет после десяти часов вечера один за ворота; всякий в ночь на Пасху побоится идти в конюшню, опасаясь застать там домового.
В Обломовке верили всему: и оборотням, и мертвецам. Расскажут ли им, что копна сена разгуливала по полю, - они не задумаются и поверят; пропустит ли кто-нибудь слух, что вот это не баран, а что-то другое или что такая-то Марфа или Степанида - ведьма, они будут бояться и барана, и Марфы: им и в голову не придет спросить, отчего баран стал не бараном, а Марфа сделалась ведьмой, да еще накинутся и на того, кто бы вздумал усомниться в этом, - так сильна вера в чудесное в Обломовке!
Илья Ильич и увидит после, что просто устроен мир, что не встают мертвецы из могил, что великанов, как только они заведутся, тотчас сажают в балаган, а разбойников - в тюрьму; но если пропадает самая вера в призраки, то остается какой-то осадок страха и безотчетной тоски.
Узнал Илья Ильич, что нет бед от чудовищ, а какие есть - едва знает, и на каждом шагу всё ждет чего-то страшного и боится. И теперь еще, оставшись в темной комнате или увидя покойника, он трепещет от зловещей, в детстве зароненной в душу тоски; смеясь над страхами своими поутру, он опять бледнеет вечером.
Он уж учится в селе Верхлёве, верстах в пяти от Обломовки, у тамошнего управляющего, немца Штольца, который завел небольшой пансион для детей окрестных дворян.
У него был свой сын, Андрей, почти одних лет с Обломовым, да еще отдали ему одного мальчика, который почти никогда не учился, а больше страдал золотухой, всё детство проходил постоянно с завязанными глазами или ушами да плакал всё втихомолку о том, что живет не у бабушки, а в чужом доме, среди злодеев, что вот его и приласкать-то некому и никто любимого пирожка не испечет ему.
Кроме этих детей, других еще в пансионе пока не было.
Нечего делать, отец и мать посадили баловника Илюшу за книгу. Это стоило слез, воплей, капризов. Наконец отвезли.
Немец был человек дельный и строгий, как почти все немцы. Может быть, у него Илюша и успел бы выучиться чему-нибудь хорошенько, если б Обломовка была верстах в пятистах от Верхлёва. А то как выучиться? Обаяние обломовской атмосферы, образа жизни и привычек простиралось и на Верхлёво; ведь оно тоже было некогда Обломовкой; там, кроме дома Штольца, всё дышало тою же первобытною ленью, простотою нравов, тишиною и неподвижностью.
Ум и сердце ребенка исполнились всех картин, сцен и нравов этого быта прежде, нежели он увидел первую книгу. А кто знает, как рано начинается развитие умственного зерна в детском мозгу? Как уследить за рождением в младенческой душе первых понятий и впечатлений?
Может быть, когда дитя еще едва выговаривало слова, а может быть, еще вовсе не выговаривало, даже не ходило, а только смотрело на всё тем пристальным немым детским взглядом, который взрослые называют тупым, оно уж видело и угадывало значение и связь явлений окружающей его сферы, да только не признавалось в этом ни себе, ни другим.
Может быть, Илюша уж давно замечает и понимает, что говорят и делают при нем: как батюшка его, в плисовых панталонах, в коричневой суконной ваточной куртке, день-деньской только и знает, что ходит из угла в угол, заложив руки назад, нюхает табак и сморкается, а матушка переходит от кофе к чаю, от чая к обеду; что родитель и не вздумает никогда поверить, сколько копен скошено или сжато, и взыскать за упущение, а подай-ко ему нескоро носовой платок, он накричит о беспорядках и поставит вверх дном весь дом.
Может быть, детский ум его давно решил, что так, а не иначе следует жить, как живут около него взрослые. Да и как иначе прикажете решить ему? А как жили взрослые в Обломовке?
Делали ли они себе вопрос: зачем дана жизнь? Бог весть. И как отвечали на него? Вероятно, никак; это казалось им очень просто и ясно.
Не слыхивали они о так называемой многотрудной жизни, о людях, носящих томительные заботы в груди, снующих зачем-то из угла в угол по лицу земли или отдающих жизнь вечному, нескончаемому труду.
Плохо верили обломовцы и душевным тревогам; не принимали за жизнь круговорота вечных стремлений куда-то, к чему-то; боялись, как огня, увлечения страстей; и как в другом месте тело у людей быстро сгорало от вулканической работы внутреннего, душевного огня, так душа обломовцев мирно, без помехи утопала в мягком теле.
Не клеймила их жизнь, как других, ни преждевременными морщинами, ни нравственными разрушительными ударами и недугами.
Добрые люди понимали ее не иначе как идеалом покоя и бездействия, нарушаемого по временам разными неприятными случайностями, как-то: болезнями, убытками, ссорами и, между прочим, трудом.
Они сносили труд как наказание, наложенное еще на праотцев наших, но любить не могли, и где был случай, всегда от него избавлялись, находя это возможным и должным.
Они никогда не смущали себя никакими туманными умственными или нравственными вопросами: оттого всегда и цвели здоровьем и весельем, оттого там жили долго; мужчины в сорок лет походили на юношей; старики не боролись с трудной, мучительной смертью, а, дожив до невозможности, умирали как будто украдкой, тихо застывая и незаметно испуская последний вздох. Оттого и говорят, что прежде был крепче народ.
Да, в самом деле крепче: прежде не торопились объяснять ребенку значения жизни и приготовлять его к ней, как к чему-то мудреному и нешуточному; не томили его над книгами, которые рождают в голове тьму вопросов, а вопросы гложут ум и сердце и сокращают жизнь.
Норма жизни была готова и преподана им родителями, а те приняли ее, тоже готовую, от дедушки, а дедушка от прадедушки, с заветом блюсти ее целость и неприкосновенность, как огонь Весты. Как что делалось при дедах и отцах, так делалось при отце Ильи Ильича, так, может быть, делается еще и теперь в Обломовке.
О чем же им было задумываться и чем волноваться, что узнавать, каких целей добиваться?
Ничего не нужно: жизнь, как покойная река, текла мимо их; им оставалось только сидеть на берегу этой реки и наблюдать неизбежные явления, которые по очереди, без зову, представали пред каждого из них.
И вот воображению спящего Ильи Ильича начали так же по очереди, как живые картины, открываться сначала три главные акта жизни, разыгрывавшиеся как в его семействе, так у родственников и знакомых: родины, свадьба, похороны.
Потом потянулась пестрая процессия веселых и печальных подразделений ее: крестин, именин, семейных праздников, заговенья, розговенья, шумных обедов, родственных съездов, приветствий, поздравлений, официальных слез и улыбок.
Всё отправлялось с такою точностью, так важно и торжественно.
Ему представлялись даже знакомые лица и мины их при разных обрядах, их заботливость и суета. Дайте им какое хотите щекотливое сватовство, какую хотите торжественную свадьбу или именины - справят по всем правилам, без малейшего упущения. Кого где посадить, что и как подать, кому с кем ехать в церемонии, примету ли соблюсти - во всем этом никто никогда не делал ни малейшей ошибки в Обломовке.
Ребенка ли выходить не сумеют там? Стоит только взглянуть, каких розовых и увесистых купидонов носят и водят за собой тамошние матери. Они на том стоят, чтоб дети были толстенькие, беленькие и здоровенькие.
Они отступятся от весны, знать ее не захотят, если не испекут в начале ее жаворонка. Как им не знать и не исполнять этого?
Тут вся их жизнь и наука, тут все их скорби и радости: оттого они и гонят от себя всякую другую заботу и печаль и не знают других радостей; жизнь их кишела исключительно этими коренными и неизбежными событиями, которые и задавали бесконечную пищу их уму и сердцу.
Они, с бьющимся от волнения сердцем, ожидали обряда, пира, церемонии, а потом, окрестив, женив или похоронив человека, забывали самого человека и его судьбу и погружались в обычную апатию, из которой выводил их новый такой же случай - именины, свадьба и т. п.
Как только рождался ребенок, первою заботою родителей было как можно точнее, без малейших упущений, справить над ним все требуемые приличием обряды, то есть задать после крестин пир; затем начиналось заботливое ухаживанье за ним.
Мать задавала себе и няньке задачу: выходить здоровенького ребенка, беречь его от простуды, от глаза и других враждебных обстоятельств. Усердно хлопотали, чтоб дитя было всегда весело и кушало много.
Только лишь поставят на ноги молодца, то есть когда нянька станет ему не нужна, как в сердце матери закрадывается уже тайное желание приискать ему подругу - тоже поздоровее, порумянее.
Опять настает эпоха обрядов, пиров; наконец, свадьба; на этом и сосредоточивался весь пафос жизни.
Потом уже начинались повторения: рождение детей, обряды, пиры, пока похороны не изменят декорации; но ненадолго: одни лица уступают место другим, дети становятся юношами и вместе с тем женихами, женятся, производят подобных себе - и так жизнь по этой программе тянется беспрерывной однообразною тканью, незаметно обрываясь у самой могилы.
Навязывались им, правда, порой и другие заботы, но обломовцы встречали их по большей части с стоическою неподвижностью, и заботы, покружившись над головами их, мчались мимо, как птицы, которые прилетят к гладкой стене и, не найдя местечка приютиться, потрепещут напрасно крыльями около твердого камня и летят далее.
Так, например, однажды часть галереи с одной стороны дома вдруг обрушилась и погребла под развалинами своими наседку с цыплятами; досталось бы и Аксинье, жене Антипа, которая уселась было под галереей с донцом, да на ту пору, к счастью своему, пошла за мочками.
В доме сделался гвалт: все прибежали, от мала до велика, и ужаснулись, представив себе, что вместо наседки с цыплятами тут могла прохаживаться сама барыня с Ильей Ильичом.
Все ахнули и начали упрекать друг друга в том, как это давно в голову не пришло: одному - напомнить, другому - велеть поправить, третьему - поправить.
Все дались диву, что галерея обрушилась, а накануне дивились, как это она так долго держится!
Начались заботы и толки, как поправить дело; пожалели о наседке с цыплятами и медленно разошлись по своим местам, настрого запретив подводить к галерее Илью Ильича.
Потом, недели через три, велено было Андрюшке, Петрушке, Ваське обрушившиеся доски и перила оттащить к сараям, чтоб они не лежали на дороге. Там валялись они до весны.
Старик Обломов всякий раз, как увидит их из окошка, так и озаботится мыслью о поправке: призовет плотника, начнет совещаться, как лучше сделать, новую ли галерею выстроить или сломать и остатки; потом отпустит его домой, сказав: «Поди себе, а я подумаю».
Это продолжалось до тех пор, пока Васька или Мотька донес барину, что, вот-де, когда он, Мотька, сего утра лазил на остатки галереи, так углы совсем отстали от стен и того гляди рухнут опять.
Тогда призван был плотник на окончательное совещание, вследствие которого решено было подпереть пока старыми обломками остальную часть уцелевшей галереи, что и было сделано к концу того же месяца.
Э! Да галерея-то пойдет опять заново! - сказал старик жене. - Смотри-ка, как Федот красиво расставил бревна, точно колонны у предводителя в дому! Вот теперь и хорошо: опять надолго!
Кто-то напомнил ему, что вот кстати бы уж и ворота исправить и крыльцо починить, а то, дескать, сквозь ступеньки не только кошки, и свиньи пролезают в подвал.
Да, да, надо, - заботливо отвечал Илья Иванович и шел тотчас осмотреть крыльцо.
В самом деле, видишь ведь как, совсем расшаталось, - говорил он, качая ногами крыльцо, как колыбель.
Да оно и тогда шаталось, как его сделали, - заметил кто-то.
Так что ж, что шаталось? - отвечал Обломов. - Да вот не развалилось же, даром что шестнадцать лет без поправки стоит. Славно тогда сделал Лука!.. Вот был плотник так плотник... умер - царство ему небесное! Нынче избаловались: не сделают так.
И он обращал глаза в другую сторону, а крыльцо, говорят, шатается и до сих пор и всё еще не развалилось.
Видно, в самом деле славный был плотник этот Лука.
Надо, впрочем, отдать хозяевам справедливость: иной раз в беде или при неудобстве они очень обеспокоятся, даже погорячатся и рассердятся.
Как, дескать, можно запускать или оставлять то и другое? Надо сейчас принять меры. И говорят только о том, как бы починить мостик, что ли, через канаву или огородить в одном месте сад, чтоб скотина не портила деревьев, потому что часть плетня совсем лежала на земле.
Илья Иванович простер свою заботливость даже до того, что однажды, гуляя по саду, собственноручно приподнял, кряхтя и охая, плетень и велел садовнику поставить поскорей две жерди: плетень благодаря этой распорядительности Обломова простоял так всё лето, и только зимой снегом повалило его опять.
Наконец даже дошло до того, что на мостик настлали три новые доски, тотчас же, как только Антип свалился с него, с лошадью и с бочкой, в канаву. Он еще не успел выздороветь от ушиба, а уж мостик отделан был почти заново.
Коровы и козы тоже немного взяли после нового падения плетня в саду: они съели только смородинные кусты да принялись обдирать десятую липу, а до яблонь и не дошли, как последовало распоряжение врыть плетень как надо и даже окопать канавкой.
Досталось же и двум коровам и козе, пойманным на деле: славно вздули бока!
Снится еще Илье Ильичу большая темная гостиная в родительском доме с ясеневыми старинными креслами, вечно покрытыми чехлами, с огромным, неуклюжим и жестким диваном, обитым полинялым голубым бараканом в пятнах, и одним большим кожаным креслом.
Наступает длинный зимний вечер.
Мать сидит на диване, поджав ноги под себя, и лениво вяжет детский чулок, зевая и почесывая по временам спицей голову.
Подле нее сидят Настасья Ивановна да Пелагея Игнатьевна и, уткнув носы в работу, прилежно шьют что-нибудь к празднику для Илюши, или для отца его, или для самих себя.
Отец, заложив руки назад, ходит по комнате взад и вперед, в совершенном удовольствии, или присядет в кресло и, посидев немного, начнет опять ходить, внимательно прислушиваясь к звуку собственных шагов. Потом понюхает табаку, высморкается и опять понюхает.
В комнате тускло горит одна сальная свечка, и то это допускалось только в зимние и осенние вечера. В летние месяцы все старались ложиться и вставать без свечей, при дневном свете.
Это частью делалось по привычке, частью из экономии. На всякий предмет, который производился не дома, а приобретался покупкою, обломовцы были до крайности скупы.
Они с радушием заколют отличную индейку или дюжину цыплят к приезду гостя, но лишней изюминки в кушанье не положат и побледнеют, как тот же гость самовольно вздумает сам налить себе в рюмку вина.
Впрочем, такого разврата там почти не случалось: это сделает разве сорванец какой-нибудь, погибший в общем мнении человек; такого гостя и на двор не пустят.
Нет, не такие нравы были там: гость там прежде троекратного потчеванья и не дотронется ни до чего. Он очень хорошо знает, что однократное потчеванье чаще заключает в себе просьбу отказаться от предлагаемого блюда или вина, нежели отведать его.
Не для всякого зажгут и две свечи: свечка покупалась в городе на деньги и береглась, как все покупные вещи, под ключом самой хозяйки. Огарки бережно считались и прятались.
Вообще там денег тратить не любили, и, как ни необходима была вещь, но деньги за нее выдавались всегда с великим соболезнованием, и то если издержка была незначительна. Значительная же трата сопровождалась стонами, воплями и бранью.
Обломовцы соглашались лучше терпеть всякого рода неудобства, даже привыкали не считать их неудобствами, чем тратить деньги.
От этого и диван в гостиной давным-давно весь в пятнах, от этого и кожаное кресло Ильи Иваныча только называется кожаным, а в самом-то деле оно - не то мочальное, не то веревочное: кожи-то осталось только на спинке один клочок, а остальная уж пять лет как развалилась в куски и слезла; оттого же, может быть, и ворота всё кривы, и крыльцо шатается. Но заплатить за что-нибудь, хоть самонужнейшее, вдруг двести, триста, пятьсот рублей казалось им чуть не самоубийством.
Услыхав, что один из окрестных молодых помещиков ездил в Москву и заплатил там за дюжину рубашек триста рублей, двадцать пять рублей за сапоги и сорок рублей за жилет к свадьбе, старик Обломов перекрестился и сказал с выражением ужаса, скороговоркой, что «этакого молодца надо посадить в острог».
Вообще они глухи были к политико-экономическим истинам о необходимости быстрого и живого обращения капиталов, об усиленной производительности и мене продуктов. Они в простоте души понимали и приводили в исполнение единственное употребление капиталов - держать их в сундуке.
На креслах в гостиной, в разных положениях, сидят и сопят обитатели или обычные посетители дома.
Между собеседниками по большей части царствует глубокое молчание: все видятся ежедневно друг с другом; умственные сокровища взаимно исчерпаны и изведаны, а новостей извне получается мало.
Тихо; только раздаются шаги тяжелых, домашней работы сапог Ильи Ивановича, еще стенные часы в футляре глухо постукивают маятником, да порванная время от времени рукой или зубами нитка у Пелагеи Игнатьевны или у Настасьи Ивановны нарушает глубокую тишину.
Так иногда пройдет полчаса, разве кто-нибудь зевнет вслух и перекрестит рот, примолвив: «Господи помилуй!»
За ним зевнет сосед, потом следующий, медленно, как будто по команде, отворяет рот, и так далее заразительная игра воздуха в легких обойдет всех, причем иного прошибет слеза.
Или Илья Иванович пойдет к окну, взглянет туда и скажет с некоторым удивлением: «Еще пять часов только, а уж как темно на дворе!»
Да, - ответит кто-нибудь, - об эту пору всегда темно; длинные вечера наступают.
А весной удивятся и обрадуются, что длинные дни наступают. А спросите-ка, зачем им эти длинные дни, так они и сами не знают.
И опять замолчат.
А там кто-нибудь станет снимать со свечи и вдруг погасит - все встрепенутся: «Нечаянный гость!» - скажет непременно кто-нибудь.
Иногда на этом завяжется разговор.
Кто ж бы это гость? - скажет хозяйка. - Уж не Настасья ли Фаддеевна? Ах, дай-то Господи! Да нет; она ближе праздника не будет. То-то бы радости! То-то бы обнялись да наплакались с ней вдвоем! И к заутрене, и к обедне бы вместе... Да куда мне за ней! Я даром что моложе, а не выстоять мне столько!
А когда, бишь, она уехала от нас? - спросил Илья Иванович. - Кажется, после Ильина дня?
Что ты, Илья Иваныч! Всегда перепутаешь! Она и семика не дождалась, - поправила жена.
Она, кажется, в петровки здесь была, - возражает Илья Иванович.
Ты всегда так! - с упреком скажет жена. - Споришь, только срамишься...
Ну как же не была в петровки? Еще тогда всё пироги с грибами пекли: она любит...
Так это Марья Онисимовна: она любит пироги с грибами - как это не помнишь! Да и Марья Онисимовна не до Ильина дня, а до Прохора и Никанора гостила.
Они вели счет времени по праздникам, по временам года, по разным семейным и домашним случаям, не ссылаясь никогда ни на месяцы, ни на числа. Может быть, это происходило частью и оттого, что, кроме самого Обломова, прочие всё путали и названия месяцев, и порядок чисел.
Замолчит побежденный Илья Иванович, и опять всё общество погрузится в дремоту. Илюша, завалившись за спину матери, тоже дремлет, а иногда и совсем спит.
Да, - скажет потом какой-нибудь из гостей с глубоким вздохом, - вот муж-то Марьи Онисимовны, покойник Василий Фомич, какой был, Бог с ним, здоровый, а умер! И шестидесяти лет не прожил, - жить бы этакому сто лет!
Все умрем, кому когда - воля Божья! - возражает Пелагея Игнатьевна со вздохом. - Кто умирает, а вот у Хлоповых так не поспевают крестить: говорят, Анна Андревна опять родила - уж это шестой.
Одна ли Анна Андреевна! - сказала хозяйка. - Вот как брата-то ее женят и пойдут дети - столько ли еще будет хлопот! И меньшие подрастают, тоже в женихи смотрят; там дочерей выдавай замуж, а где женихи здесь? Нынче, вишь, ведь все хотят приданого, да всё деньгами...
Что вы такое говорите? - спросил Илья Иванович, подойдя к беседовавшим.
Да вот говорим, что...
И ему повторяют рассказ.
Вот жизнь-то человеческая! - поучительно произнес Илья Иванович. - Один умирает, другой родится, третий женится, а мы вот всё стареемся: не то что год на год, день на день не приходится! Зачем это так? То ли бы дело, если б каждый день как вчера, вчера как завтра!.. Грустно, как подумаешь...
Старый старится, а молодой растет! - сонным голосом кто-то сказал из угла.
Надо Богу больше молиться да не думать ни о чем! - строго заметила хозяйка.
Правда, правда, - трусливо, скороговоркой отозвался Илья Иванович, вздумавший было пофилософствовать, и пошел опять ходить взад и вперед.
Долго опять молчат; шипят только продеваемые взад и вперед иглой нитки. Иногда хозяйка нарушит молчание.
Да, темно на дворе, - скажет она. - Вот, Бог даст, как дождемся святок, приедут погостить свои, ужо будет повеселее, и не видно, как будут проходить вечера. Вот если б Маланья Петровна приехала, уж тут было бы проказ-то! Чего она не затеет! И олово лить, и воск топить, и за ворота бегать; девок у меня всех с пути собьет. Затеет игры разные... такая, право!
Да, светская дама! - заметил один из собеседников. - В третьем году она и с гор выдумала кататься, вот как еще Лука Савич бровь расшиб...
Вдруг все встрепенулись, посмотрели на Луку Савича и разразились хохотом.
Как это ты, Лука Савич? Ну-ка, ну, расскажи! - говорит Илья Иванович и помирает со смеху.
И все продолжают хохотать, и Илюша проснулся, и он хохочет.
Ну, чего рассказывать! - говорит смущенный Лука Савич. - Это всё вон Алексей Наумыч выдумал: ничего и не было совсем.
Э! - хором подхватили все. - Да как же ничего не было? Мы-то умерли разве?.. А лоб-то, лоб-то, вон и до сих пор рубец виден...
И захохотали.
Да что вы смеетесь? - старается выговорить в промежутках смеха Лука Савич. - Я бы... и не того... да всё Васька, разбойник... салазки старые подсунул... они и разъехались подо мной... я и того...
Общий хохот покрыл его голос. Напрасно он силился досказать историю своего падения: хохот разлился по всему обществу, проник до передней и до девичьей, объял весь дом, все вспомнили забавный случай, все хохочут долго, дружно, несказанно , как олимпийские боги. Только начнут умолкать, кто-нибудь подхватит опять - и пошло писать.
Наконец кое-как, с трудом успокоились.
А что, нынче о святках будешь кататься, Лука Савич? - спросил, помолчав, Илья Иванович.
Опять общий взрыв хохота, продолжавшийся минут десять.
Не велеть ли Антипке постом сделать гору? - вдруг опять скажет Обломов. - Лука Савич, мол, охотник большой, не терпится ему...
Хохот всей компании не дал договорить ему.
Да целы ли те... салазки-то? - едва от смеха выговорил один из собеседников.
Опять смех.
Долго смеялись все, наконец стали мало-помалу затихать: иной утирал слезы, другой сморкался, третий кашлял неистово и плевал, с трудом выговаривая:
Ах ты, Господи! Задушила мокрота совсем... насмешил тогда, ей-богу! Такой грех! Как он спиной-то кверху, а полы кафтана врозь...
Тут следовал окончательно последний, самый продолжительный раскат хохота, и затем всё смолкло. Один вздохнул, другой зевнул вслух, с приговоркой, и всё погрузилось в молчание.
По-прежнему слышалось только качанье маятника, стук сапог Обломова да легкий треск откушенной нитки.
Вдруг Илья Иванович остановился посреди комнаты с встревоженным видом, держась за кончик носа.
Что это за беда? Смотри-ка! - сказал он. - Быть покойнику: у меня кончик носа всё чешется...
Ах ты, Господи! - всплеснув руками, сказала жена. - Какой же это покойник, коли кончик чешется? Покойник - когда переносье чешется. Ну, Илья Иваныч, какой ты, Бог с тобой, беспамятный! Вот этак скажешь в людях когда-нибудь или при гостях и - стыдно будет.
А что ж это значит, кончик-то чешется? - спросил сконфуженный Илья Иванович.
В рюмку смотреть. А то, как это можно: покойник!
Всё путаю! - сказал Илья Иванович. - Где тут упомнить: то сбоку нос чешется, то с конца, то брови...
Сбоку, - подхватила Пелагея Ивановна, - означает вести; брови чешутся - слезы; лоб - кланяться; с правой стороны чешется - мужчине, с левой - женщине; уши зачешутся - значит, к дождю, губы - целоваться, усы - гостинцы есть, локоть - на новом месте спать, подошвы - дорога...
Ну, Пелагея Ивановна, молодец! - сказал Илья Иванович. - А то еще когда масло дешево будет, так затылок, что ли, чешется...
Дамы начали смеяться и перешептываться; некоторые из мужчин улыбались; готовился опять взрыв хохота, но в эту минуту в комнате раздалось в одно время как будто ворчанье собаки и шипенье кошки, когда они собираются броситься друг на друга. Это загудели часы.
Э! Да уж девять часов! - с радостным изумлением произнес Илья Иванович. - Смотри-ка, пожалуй, и не видать, как время прошло. Эй, Васька! Ванька! Мотька!
Явились три заспанные физиономии.
Что ж вы не накрываете на стол? - с удивлением и досадой спросил Обломов. - Нет, чтоб подумать о господах? Ну, чего стоите? Скорей, водки!
Вот отчего кончик носа чесался! - живо сказала Пелагея Ивановна. - Будете пить водку и посмотрите в рюмку.
После ужина, почмокавшись и перекрестив друг друга, все расходятся по своим постелям, и сон воцаряется над беспечными головами.
Видит Илья Ильич во сне не один, не два такие вечера, но целые недели, месяцы и годы так проводимых дней и вечеров.
Ничто не нарушало однообразия этой жизни, и сами обломовцы не тяготились ею, потому что и не представляли себе другого житья-бытья; а если б и смогли представить, то с ужасом отвернулись бы от него.
Другой жизни и не хотели, и не любили бы они. Им бы жаль было, если б обстоятельства внесли перемены в их быт, какие бы то ни были. Их загрызет тоска, если завтра не будет похоже на сегодня, а послезавтра на завтра.
Зачем им разнообразие, перемены, случайности, на которые напрашиваются другие? Пусть же другие и расхлебывают эту чашу, а им, обломовцам, ни до чего и дела нет. Пусть другие и живут, как хотят.
Ведь случайности, хоть бы и выгоды какие-нибудь, беспокойны: они требуют хлопот, забот, беготни, не посиди на месте, торгуй или пиши - словом, поворачивайся, шутка ли!
Они продолжали целые десятки лет сопеть, дремать и зевать или заливаться добродушным смехом от деревенского юмора, или, собираясь в кружок, рассказывали, что кто видел ночью во сне.
Если сон был страшный - все задумывались, боялись не шутя; если пророческий - все непритворно радовались или печалились, смотря по тому, горестное или утешительное снилось во сне. Требовал ли сон соблюдения какой-нибудь приметы, тотчас для этого принимались деятельные меры.
Не это, так играют в дураки, в свои козыри, а по праздникам с гостями в бостон или раскладывают гранпасьянс, гадают на червонного короля да на трефовую даму, предсказывая марьяж.
Иногда приедет какая-нибудь Наталья Фаддеевна гостить на неделю, на две. Сначала старухи переберут весь околоток, кто как живет, кто что делает; они проникнут не только в семейный быт, в закулисную жизнь, но в сокровенные помыслы и намерения каждого, влезут в душу, побранят, обсудят недостойных, всего более неверных мужей, потом пересчитают разные случаи: именины, крестины, родины, кто чем угощал, кого звал, кого нет.
Уставши от этого, начнут показывать обновки, платья, салопы, даже юбки и чулки. Хозяйка похвастается какими-нибудь полотнами, нитками, кружевами домашнего изделия.
Но истощится и это. Тогда пробавляются кофеями, чаями, вареньями. Потом уже переходят к молчанию.
Сидят подолгу, глядя друг на друга, по временам тяжко о чем-то вздыхают. Иногда которая-нибудь и заплачет.
Что ты, мать моя? - спросит в тревоге другая.
Ох, грустно, голубушка! - отвечает с тяжким вздохом гостья. - Прогневали мы Господа Бога, окаянные. Не бывать добру.
Ах, не пугай, не стращай, родная! - прерывает хозяйка.
Да, да, - продолжает та. - Пришли последние дни: восстанет язык на язык, царство на царство... наступит светопреставление! - выговаривает наконец Наталья Фаддеевна, и обе плачут горько.
Основания никакого к такому заключению со стороны Натальи Фаддеевны не было, никто ни на кого не восставал, даже кометы в тот год не было, но у старух бывают иногда темные предчувствия.
Изредка разве это провождение времени нарушится каким-нибудь нечаянным случаем, когда, например, все угорят целым домом, от мала до велика.
Других болезней почти и не слыхать было в дому и деревне; разве кто-нибудь напорется на какой-нибудь кол в темноте или свернется с сеновала, или с крыши свалится доска да ударит по голове.
Но всё это случалось редко, и против таких нечаянностей употреблялись домашние испытанные средства: ушибленное место потрут бодягой или зарей, дадут выпить святой водицы или пошепчут - и всё пройдет.
Но угар случался частенько. Тогда все валяются вповалку по постелям: слышится оханье, стоны; один обложит голову огурцами и повяжется полотенцем, другой положит клюквы в уши и нюхает хрен, третий в одной рубашке уйдет на мороз, четвертый просто валяется без чувств на полу.
Это случалось периодически один или два раза в месяц, потому что тепла даром в трубу пускать не любили и закрывали печи, когда в них бегали еще такие огоньки, как в «Роберте-дьяволе». Ни к одной лежанке,
ни к одной печке нельзя было приложить руки: того и гляди, вскочит пузырь.
Однажды только однообразие их быта нарушилось уж подлинно нечаянным случаем.
Когда, отдохнув после трудного обеда, все собрались к чаю, вдруг пришел воротившийся из города обломовский мужик, и уж он доставал, доставал из-за пазухи, наконец насилу достал скомканное письмо на имя Ильи Иваныча Обломова.
Все обомлели; хозяйка даже изменилась немного в лице; глаза у всех устремились и носы вытянулись по направлению к письму.
Что за диковина! От кого это? - произнесла наконец барыня, опомнившись.
Обломов взял письмо и с недоумением ворочал его в руках, не зная, что с ним делать.
Да ты где взял? - спросил он мужика. - Кто тебе дал?
А на дворе, где я приставал в городе-то, слышь ты, - отвечал мужик, - с пошты приходили два раза спрашивать, нет ли обломовских мужиков: письмо, слышь, к барину есть.
Ну, я перва-наперво притаился: солдат и ушел с письмом-то. Да верхлёвский дьячок видал меня, он и сказал. Пришли вдругорядь. Как пришли вдругорядь-то, ругаться стали и отдали письмо, еще пятак взяли. Я спросил, что, мол, делать мне с ним, куда его деть? Так вот велели вашей милости отдать.
А ты бы не брал, - сердито заметила барыня.
Я и то не брал. На что, мол, нам письмо-то, - нам не надо. Нам, мол, не наказывали писем брать - я не смею: подите вы, с письмом-то! Да пошел больно ругаться солдат-то: хотел начальству жаловаться; я и взял.
Дурак! - сказала барыня.
От кого ж бы это? - задумчиво говорил Обломов, рассматривая адрес. - Рука как будто знакомая, право!
И письмо пошло ходить из рук в руки. Начались толки и догадки: от кого и о чем оно могло быть? Все наконец стали втупик.
Илья Иванович велел сыскать очки: их отыскивали часа полтора. Он надел их и уже подумывал было вскрыть письмо.
Полно, не распечатывай, Илья Иваныч, - с боязнью остановила его жена, - кто его знает, какое оно там, письмо-то? может быть, еще страшное, беда какая-нибудь. Вишь ведь народ-то нынче какой стал! Завтра или послезавтра успеешь - не уйдет оно от тебя.
И письмо с очками было спрятано под замок. Все занялись чаем. Оно бы пролежало там годы, если б не было слишком необыкновенным явлением и не взволновало умы обломовцев. За чаем и на другой день у всех только и разговора было, что о письме.
Наконец не вытерпели, и на четвертый день, собравшись толпой, с смущением распечатали. Обломов взглянул на подпись.
- «Радищев», - прочитал он. - Э! Да это от Филиппа Матвеича!
А! Э! Вот от кого! - поднялось со всех сторон. - Да как это он еще жив по сю пору? Поди ты, еще не умер! Ну, слава Богу! Что он пишет?
Послать, послать ему! - заговорили все. - Надо написать письмецо.
Так прошло недели две.
Надо, надо написать! - твердил Илья Иванович жене. - Где рецепт-то?
А где он? - отвечала жена. - Еще надо сыскать. Да погоди, что торопиться? Вот, Бог даст, дождемся праздника, разговеемся, тогда и напишешь; еще не уйдет...
В самом деле, о празднике лучше напишу, - сказал Илья Иванович.
На празднике опять зашла речь о письме. Илья Иванович собрался совсем писать. Он удалился в кабинет, надел очки и сел к столу.
В доме воцарилась глубокая тишина; людям не велено было топать и шуметь. «Барин пишет!» - говорили все таким робко-почтительным голосом, каким говорят, когда в доме есть покойник.
Он только было вывел: «Милостивый государь», медленно, криво, дрожащей рукой и с такою осторожностью, как будто делал какое-нибудь опасное дело, как к нему явилась жена.
Искала, искала - нету рецепта, - сказала она. - Надо еще в спальне в шкапу поискать. Да как посылать письмо-то?
С почтой надо, - отвечал Илья Иванович.
А что туда стуит?
Обломов достал старый календарь.
Сорок копеек, - сказал он.
Вот, сорок копеек на пустяки бросать! - заметила она. - Лучше подождем, не будет ли из города оказии туда. Ты вели узнавать мужикам.
И в самом деле по оказии-то лучше, - отвечал Илья Иванович и, пощелкав перо об стол, всунул в чернильницу и снял очки.
Право, лучше, - заключил он, - еще не уйдет: успеем послать.
Неизвестно, дождался ли Филипп Матвеевич рецепта.
Илья Иванович иногда возьмет и книгу в руки - ему всё равно, какую-нибудь. Он и не подозревал в чтении существенной потребности, а считал его роскошью, таким делом, без которого легко и обойтись можно, так точно, как можно иметь картину на стене, можно и не иметь, можно пойти прогуляться, можно и не пойти: от этого ему всё равно, какая бы ни была книга; он смотрел на нее как на вещь, назначенную для развлечения, от скуки и от нечего делать.
Давно не читал книги, - скажет он или иногда изменит фразу: - Дай-ка почитаю книгу, - скажет или просто, мимоходом, случайно увидит доставшуюся ему после брата небольшую кучку книг и вынет, не выбирая, что попадется. Голиков ли попадется ему, Новейший ли Сонник , Хераскова Россияда , или трагедии Сумарокова, или, наконец, третьегодичные ведомости - он всё читает с равным удовольствием, приговаривая по временам:
Видишь, что ведь выдумал! Экой разбойник! Ах, чтоб тебе пусто было!
Эти восклицания относились к авторам - звание, которое в глазах его не пользовалось никаким уважением; он даже усвоил себе и то полупрезрение к писателям, которое питали к ним люди старого времени. Он, как и многие тогда, почитал сочинителя не иначе как весельчаком, гулякой, пьяницей и потешником, вроде плясуна.
Иногда он из третьегодичных газет почитает и вслух, для всех, или так сообщает им известия.
Вот из Гаги пишут, - скажет он, - что его величество король изволил благополучно возвратиться из кратковременного путешествия во дворец, - и при этом поглядит через очки на всех слушателей.
В Вене такой-то посланник вручил свои кредитивные граматы.
А вот тут пишут, - читал он еще, - что сочинения госпожи Жанлис перевели на российский язык.
Это всё, чай, для того переводят, - замечает один из слушателей, мелкопоместный помещик, - чтоб у нашего брата, дворянина, деньги выманивать.
А бедный Илюша ездит да ездит учиться к Штольцу. Как только он проснется в понедельник, на него уж нападает тоска. Он слышит резкий голос Васьки, который кричит с крыльца:
Антипка! Закладывай пегую: барчонка к немцу везти!
Сердце дрогнет у него. Он печальный приходит к матери. Та знает отчего и начинает золотить пилюлю, втайне вздыхая сама о разлуке с ним на целую неделю.
Не знают, чем и накормить его в то утро, напекут ему булочек и крендельков, отпустят с ним соленья, печенья, варенья, пастил разных и других всяких сухих и мокрых лакомств и даже съестных припасов. Всё это отпускалось в тех видах, что у немца нежирно кормят.
Там не разъешься, - говорили обломовцы, - обедать-то дадут супу, да жаркого, да картофелю, к чаю масла, а ужинать-то морген фри - нос утри.
Впрочем, Илье Ильичу снятся больше такие понедельники, когда он не слышит голоса Васьки, приказывающего закладывать пегашку, и когда мать встречает его за чаем с улыбкой и с приятною новостью:
Сегодня не поедешь; в четверг большой праздник: стоит ли ездить взад и вперед на три дня?
Или иногда вдруг объявит ему: «Сегодня родительская неделя, - не до ученья: блины будем печь».
А не то так мать посмотрит утром в понедельник пристально на него да и скажет:
Что-то у тебя глаза несвежи сегодня. Здоров ли ты? - и покачает головой.
Лукавый мальчишка здоровехонек, но молчит.
Посиди-ка ты эту недельку дома, - скажет она, - а там - что Бог даст.
И все в доме были проникнуты убеждением, что ученье и родительская суббота никак не должны совпадать вместе или что праздник в четверг - неодолимая преграда к ученью во всю неделю.
Разве только иногда слуга или девка, которым достанется за барчонка, проворчат:
У, баловень! Скоро ли провалишься к своему немцу?
В другой раз вдруг к немцу Антипка явится на знакомой пегашке, среди или в начале недели, за Ильей Ильичом.
Приехала, дескать, Марья Савишна или Наталья Фаддеевна гостить или Кузовковы со своими детьми, так пожалуйте домой!
И недели три Илюша гостит дома, а там, смотришь, до Страстной недели уж недалеко, а там и праздник, а там кто-нибудь в семействе почему-то решит, что на Фоминой неделе не учатся; до лета остается недели две - не стоит ездить, а летом и сам немец отдыхает, так уж лучше до осени отложить.
Посмотришь, Илья Ильич и отгуляется в полгода, и как вырастет он в это время! Как потолстеет! Как спит славно! Не налюбуются на него в доме, замечая, напротив, что, возвратясь в субботу от немца, ребенок худ и бледен.
Долго ли до греха? - говорили отец и мать. - Ученье-то не уйдет, а здоровья не купишь; здоровье дороже всего в жизни. Вишь, он из ученья как из больницы воротится: жирок весь пропадает, жиденький такой... да и шалун: всё бы ему бегать!
Да, - заметит отец, - ученье-то не свой брат: хоть кого в бараний рог свернет!
И нежные родители продолжали приискивать предлоги удерживать сына дома. За предлогами, и кроме праздников, дело не ставало. Зимой казалось им холодно, летом по жаре тоже не годится ехать, а иногда и дождь пойдет, осенью слякоть мешает. Иногда Антипка что-то сомнителен покажется: пьян не пьян, а как-то дико смотрит: беды бы не было, завязнет или оборвется где-нибудь.
Обломовцы старались, впрочем, придать как можно более законности этим предлогам в своих собственных глазах и особенно в глазах Штольца, который не щадил и в глаза, и за глаза доннерветтеров за такое баловство.
Времена Простаковых и Скотининых миновались давно. Пословица: ученье свет, а неученье тьма - бродила уже по селам и деревням вместе с книгами, развозимыми букинистами.
Старики понимали выгоду просвещения, но только внешнюю его выгоду. Они видели, что уж все начали выходить в люди, то есть приобретать чины, кресты и деньги не иначе как только путем ученья; что старым подьячим, заторелым на службе дельцам, состаревшимся в давнишних привычках, кавычках и крючках, приходилось плохо.
Стали носиться зловещие слухи о необходимости не только знания грамоты, но и других, до тех пор неслыханных в том быту наук. Между титулярным советником и коллежским асессором разверзалась бездна, мостом через которую служил какой-то диплом.
Старые служаки, чада привычки и питомцы взяток, стали исчезать. Многих, которые не успели умереть, выгнали за неблагонадежность, других отдали под суд; самые счастливые были те, которые, махнув рукой на новый порядок вещей, убрались подобру да поздорову в благоприобретенные углы.
Обломовы смекали это и понимали выгоду образования, но только эту очевидную выгоду. О внутренней потребности ученья они имели еще смутное и отдаленное понятие, и оттого им хотелось уловить для своего Илюши пока некоторые блестящие преимущества.
Они мечтали и о шитом мундире для него, воображали его советником в палате, а мать даже и губернатором; но всего этого хотелось бы им достигнуть как-нибудь подешевле, с разными хитростями, обойти тайком разбросанные по пути просвещения и честей камни и преграды, не трудясь перескакивать через них, то есть, например, учиться слегка, не до изнурения души и тела, не до утраты благословенной, в детстве приобретенной полноты, а так, чтоб только соблюсти предписанную форму и добыть как-нибудь аттестат, в котором бы сказано было, что Илюша прошел все науки и искусства .
Вся эта обломовская система воспитания встретила сильную оппозицию в системе Штольца. Борьба была с обеих сторон упорная. Штольц прямо, открыто и настойчиво поражал соперников, а они уклонялись от ударов вышесказанными и другими хитростями.
Победа не решалась никак; может быть, немецкая настойчивость и преодолела бы упрямство и закоснелость обломовцев, но немец встретил затруднения на своей собственной стороне, и победе не суждено было решиться ни на ту, ни на другую сторону. Дело в том, что сын Штольца баловал Обломова, то подсказывая ему уроки, то делая за него переводы.
Илье Ильичу ясно видится и домашний быт его, и житье у Штольца.
Он только что проснется у себя дома, как у постели его уже стоит Захарка, впоследствии знаменитый камердинер его Захар Трофимыч.
Захар, как, бывало, нянька, натягивает ему чулки, надевает башмаки, а Илюша, уже четырнадцатилетний мальчик, только и знает, что подставляет ему лежа то ту, то другую ногу; а чуть что покажется ему не так, то он поддаст Захарке ногой в нос.
Если недовольный Захарка вздумает пожаловаться, то получит еще от старших колотушку.
Потом Захарка чешет голову, натягивает куртку, осторожно продевая руки Ильи Ильича в рукава, чтоб не слишком беспокоить его, и напоминает Илье Ильичу, что надо сделать то, другое: вставши поутру, умыться и т. п.
Захочет ли чего-нибудь Илья Ильич, ему стоит только мигнуть - уж трое-четверо слуг кидаются исполнять его желание; уронит ли он что-нибудь, достать ли ему нужно вещь, да не достанет, принести ли что, сбегать ли за чем: ему иногда, как резвому мальчику, так и хочется броситься и переделать всё самому, а тут вдруг отец и мать да три тетки в пять голосов и закричат:
Зачем? Куда? А Васька, а Ванька, а Захарка на что? Эй! Васька! Ванька! Захарка! Чего вы смотрите, разини? Вот я вас!..
И не удастся никак Илье Ильичу сделать что-нибудь самому для себя.
После он нашел, что оно и покойнее гораздо, и сам выучился покрикивать: «Эй, Васька! Ванька! подай то, дай другое! Не хочу того, хочу этого! Сбегай, принеси!»
Подчас нежная заботливость родителей и надоедала ему.
Побежит ли он с лестницы или по двору, вдруг вслед ему раздастся в десять отчаянных голосов: «Ах, ах! Поддержите, остановите! Упадет, расшибется... стой, стой!»
Задумает ли он выскочить зимой в сени или отворить форточку - опять крики: «Ай, куда? Как можно? Не бегай, не ходи, не отворяй: убьешься, простудишься...»
И Илюша с печалью оставался дома, лелеемый, как экзотический цветок в теплице, и, так же как последний под стеклом, он рос медленно и вяло. Ищущие проявления силы обращались внутрь и никли, увядая.
А иногда он проснется такой бодрый, свежий, веселый; он чувствует: в нем играет что-то, кипит, точно поселился бесенок какой-нибудь, который так и поддразнивает его то влезть на крышу, то сесть на савраску да поскакать в луга, где сено косят, или посидеть на заборе верхом, или подразнить деревенских собак; или вдруг захочется пуститься бегом по деревне, потом в поле, по буеракам, в березняк да в три скачка броситься на дно оврага, или увязаться за мальчишками играть в снежки, попробовать свои силы.
Бесенок так и подмывает его: он крепится, крепится, наконец не вытерпит, и вдруг, без картуза, зимой, прыг с крыльца на двор, оттуда за ворота, захватил в обе руки по кому снега и мчится к куче мальчишек.
Свежий ветер так и режет ему лицо, за уши щиплет мороз, в рот и горло пахнуло холодом, а грудь охватило радостью - он мчится, откуда ноги взялись, сам и визжит, и хохочет.
Вот и мальчишки: он бац снегом - мимо: сноровки нет; только хотел захватить еще снежку, как всё лицо залепила ему целая глыба снегу: он упал; и больно ему с непривычки, и весело, и хохочет он, и слезы у него на глазах...
А в доме гвалт: Илюши нет! Крик, шум. На двор выскочил Захарка, за ним Васька, Митька, Ванька - все бегут, растерянные, по двору.
За ними кинулись, хватая их за пятки, две собаки, которые, как известно, не могут равнодушно видеть бегущего человека.
Люди с криками, с воплями, собаки с лаем мчатся по деревне.
Наконец набежали на мальчишек и начали чинить правосудие: кого за волосы, кого за уши, иному подзатыльника; пригрозили и отцам их.
Потом уже овладели барчонком, окутали его в захваченный тулуп, потом в отцовскую шубу, потом в два одеяла и торжественно принесли на руках домой.
Дома отчаялись уже видеть его, считая погибшим; но при виде его, живого и невредимого, радость родителей была неописанна. Возблагодарили Господа Бога, потом напоили его мятой, там бузиной, к вечеру еще малиной и продержали дня три в постели, а ему бы одно могло быть полезно: опять играть в снежки...
Часть первая
I
В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселения которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели, на своей квартире, Илья Ильич Обломов.
Это был человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока.
Иногда взгляд его помрачался выражением будто усталости или скуки; но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и основным выражением, не лица только, а всей души; а душа так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, руки. И поверхностно наблюдательный, холодный человек, взглянув мимоходом на Обломова, сказал бы: «Добряк должен быть, простота!» Человек поглубже и посимпатичнее, долго вглядываясь в лицо его, отошел бы в приятном раздумье, с улыбкой.
Цвет лица у Ильи Ильича не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а безразличный или казался таким, может быть, потому, что Обломов как-то обрюзг не по летам: от недостатка ли движения или воздуха, а может быть, того и другого. Вообще же тело его, судя по матовому, чересчур белому цвету шеи, маленьких пухлых рук, мягких плеч, казалось слишком изнеженным для мужчины.
Движения его, когда он был даже встревожен, сдерживались также мягкостью и не лишенною своего рода грации ленью. Если на лицо набегала из души туча заботы, взгляд туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнений, печали, испуга; но редко тревога эта застывала в форме определенной идеи, еще реже превращалась в намерение. Вся тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии или в дремоте.
Как шел домашний костюм Обломова к покойным чертам лица его и к изнеженному телу! На нем был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что и Обломов мог дважды завернуться в него. Рукава, по неизменной азиатской моде, шли от пальцев к плечу все шире и шире. Хотя халат этот и утратил свою первоначальную свежесть и местами заменил свой первобытный, естественный лоск другим, благоприобретенным, но все еще сохранял яркость восточной краски и прочность ткани.
Халат имел в глазах Обломова тьму неоцененных достоинств: он мягок, гибок; тело не чувствует его на себе; он, как послушный раб, покоряется самомалейшему движению тела.
Обломов всегда ходил дома без галстука и без жилета, потому что любил простор и приволье. Туфли на нем были длинные, мягкие и широкие; когда он, не глядя, опускал ноги с постели на пол, то непременно попадал в них сразу.
Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя: это было его нормальным состоянием. Когда он был дома – а он был почти всегда дома, – он все лежал, и все постоянно в одной комнате, где мы его нашли, служившей ему спальней, кабинетом и приемной. У него было еще три комнаты, но он редко туда заглядывал, утром разве, и то не всякий день, когда человек мел кабинет его, чего всякий день не делалось. В трех комнатах мебель закрыта была чехлами, шторы спущены.
Комната, где лежал Илья Ильич, с первого взгляда казалась прекрасно убранною. Там стояло бюро красного дерева, два дивана, обитые шелковою материею, красивые ширмы с вышитыми небывалыми в природе птицами и плодами. Были там шелковые занавесы, ковры, несколько картин, бронза, фарфор и множество красивых мелочей.
Но опытный глаз человека с чистым вкусом одним беглым взглядом на все, что тут было, прочел бы только желание кое-как соблюсти decorum неизбежных приличий, лишь бы отделаться от них. Обломов хлопотал, конечно, только об этом, когда убирал свой кабинет. Утонченный вкус не удовольствовался бы этими тяжелыми, неграциозными стульями красного дерева, шаткими этажерками. Задок у одного дивана оселся вниз, наклеенное дерево местами отстало.
Точно тот же характер носили на себе и картины, и вазы, и мелочи.
Сам хозяин, однако, смотрел на убранство своего кабинета так холодно и рассеянно, как будто спрашивал глазами: «Кто сюда натащил и наставил все это?» От такого холодного воззрения Обломова на свою собственность, а может быть, и еще от более холодного воззрения на тот же предмет слуги его, Захара, вид кабинета, если осмотреть там все повнимательнее, поражал господствующею в нем запущенностью и небрежностью.
По стенам, около картин, лепилась в виде фестонов паутина, напитанная пылью; зеркала, вместо того чтоб отражать предметы, могли бы служить скорее скрижалями, для записывания на них, по пыли, каких-нибудь заметок на память. Ковры были в пятнах. На диване лежало забытое полотенце; на столе редкое утро не стояла не убранная от вчерашнего ужина тарелка с солонкой и с обглоданной косточкой да не валялись хлебные крошки.
Если б не эта тарелка, да не прислоненная к постели только что выкуренная трубка, или не сам хозяин, лежащий на ней, то можно было бы подумать, что тут никто не живет, – так все запылилось, полиняло и вообще лишено было живых следов человеческого присутствия. На этажерках, правда, лежали две-три развернутые книги, валялась газета, на бюро стояла и чернильница с перьями; но страницы, на которых развернуты были книги, покрылись пылью и пожелтели; видно, что их бросили давно; нумер газеты был прошлогодний, а из чернильницы, если обмакнуть в нее перо, вырвалась бы разве только с жужжаньем испуганная муха.
Илья Ильич проснулся, против обыкновения, очень рано, часов в восемь. Он чем-то сильно озабочен. На лице у него попеременно выступал не то страх, не то тоска и досада. Видно было, что его одолевала внутренняя борьба, а ум еще не являлся на помощь.
Дело в том, что Обломов накануне получил из деревни, от своего старосты, письмо неприятного содержания. Известно, о каких неприятностях может писать староста: неурожай, недоимки, уменьшение дохода и т. п. Хотя староста и в прошлом и в третьем году писал к своему барину точно такие же письма, но и это последнее письмо подействовало так же сильно, как всякий неприятный сюрприз.
Легко ли? предстояло думать о средствах к принятию каких-нибудь мер. Впрочем, надо отдать справедливость заботливости Ильи Ильича о своих делах. Он по первому неприятному письму старосты, полученному несколько лет назад, уже стал создавать в уме план разных перемен и улучшений в порядке управления своим имением.
По этому плану предполагалось ввести разные новые экономические, полицейские и другие меры. Но план был еще далеко не весь обдуман, а неприятные письма старосты ежегодно повторялись, побуждали его к деятельности и, следовательно, нарушали покой. Обломов сознавал необходимость до окончания плана предпринять что-нибудь решительное.
Он, как только проснулся, тотчас же вознамерился встать, умыться и, напившись чаю, подумать хорошенько, кое-что сообразить, записать и вообще заняться этим делом как следует.
С полчаса он все лежал, мучась этим намерением, но потом рассудил, что успеет еще сделать это и после чаю, а чай можно пить, по обыкновению, в постели, тем более что ничто не мешает думать и лежа.
Так и сделал. После чаю он уже приподнялся с своего ложа и чуть было не встал; поглядывая на туфли, он даже начал спускать к ним одну ногу с постели, но тотчас же опять подобрал ее.
Пробило половина десятого, Илья Ильич встрепенулся.
– Что ж это я в самом деле? – сказал он вслух с досадой, – надо совесть знать: пора за дело! Дай только волю себе, так и…
– Захар! – закричал он.
В комнате, которая отделялась только небольшим коридором от кабинета Ильи Ильича, послышалось сначала точно ворчанье цепной собаки, потом стук спрыгнувших откуда-то ног. Это Захар спрыгнул с лежанки, на которой обыкновенно проводил время, сидя погруженный в дремоту.
В комнату вошел пожилой человек, в сером сюртуке, с прорехою под мышкой, откуда торчал клочок рубашки, в сером же жилете, с медными пуговицами, с голым, как колено, черепом и с необъятно широкими и густыми русыми с проседью бакенбардами, из которых каждой стало бы на три бороды.
Захар не старался изменить не только данного ему Богом образа, но и своего костюма, в котором ходил в деревне. Платье ему шилось по вывезенному им из деревни образцу. Серый сюртук и жилет нравились ему и потому, что в этой полуформенной одежде он видел слабое воспоминание ливреи, которую он носил некогда, провожая покойных господ в церковь или в гости; а ливрея в воспоминаниях его была единственною представительницею достоинства дома Обломовых.
Более ничто не напоминало старику барского широкого и покойного быта в глуши деревни. Старые господа умерли, фамильные портреты остались дома и, чай, валяются где-нибудь на чердаке; предания о старинном быте и важности фамилии всё глохнут или живут только в памяти немногих, оставшихся в деревне же стариков. Поэтому для Захара дорог был серый сюртук: в нем да еще в кое-каких признаках, сохранившихся в лице и манерах барина, напоминавших его родителей, и в его капризах, на которые хотя он и ворчал, и про себя и вслух, но которые между тем уважал внутренно, как проявление барской воли, господского права, видел он слабые намеки на отжившее величие.
Без этих капризов он как-то не чувствовал над собой барина; без них ничто не воскрешало молодости его, деревни, которую они покинули давно, и преданий об этом старинном доме, единственной хроники, веденной старыми слугами, няньками, мамками и передаваемой из рода в род.
Дом Обломовых был когда-то богат и знаменит в своей стороне, но потом, Бог знает отчего, все беднел, мельчал и, наконец, незаметно потерялся между нестарыми дворянскими домами. Только поседевшие слуги дома хранили и передавали друг другу верную память о минувшем, дорожа ею, как святынею.
Вот отчего Захар так любил свой серый сюртук. Может быть, и бакенбардами своими он дорожил потому, что видел в детстве своем много старых слуг с этим старинным, аристократическим украшением.
Илья Ильич, погруженный в задумчивость, долго не замечал Захара. Захар стоял перед ним молча. Наконец он кашлянул.
– Что ты? – спросил Илья Ильич.
– Ведь вы звали?
– Звал? Зачем же это я звал – не помню! – отвечал он, потягиваясь. – Поди пока к себе, а я вспомню.
Захар ушел, а Илья Ильич продолжал лежать и думать о проклятом письме.
Прошло с четверть часа.
– Ну, полно лежать! – сказал он, – надо же встать… А впрочем, дай-ка я прочту еще раз со вниманием письмо старосты, а потом уж и встану. – Захар!
Опять тот же прыжок и ворчанье сильнее. Захар вошел, а Обломов опять погрузился в задумчивость. Захар стоял минуты две, неблагосклонно, немного стороной посматривая на барина, и, наконец, пошел к дверям.
– Куда же ты? – вдруг спросил Обломов.
– Вы ничего не говорите, так что ж тут стоять-то даром? – захрипел Захар, за неимением другого голоса, который, по словам его, он потерял на охоте с собаками, когда ездил с старым барином и когда ему дунуло будто сильным ветром в горло.
Он стоял вполуоборот среди комнаты и глядел все стороной на Обломова.
– А у тебя разве ноги отсохли, что ты не можешь постоять? Ты видишь, я озабочен – так и подожди! Не належался еще там? Сыщи письмо, что я вчера от старосты получил. Куда ты его дел?
– Какое письмо? Я никакого письма не видал, – сказал Захар.
– Ты же от почтальона принял его: грязное такое!
– Куда ж его положили – почему мне знать? – говорил Захар, похлопывая рукой по бумагам и по разным вещам, лежавшим на столе.
– Ты никогда ничего не знаешь. Там, в корзине, посмотри! Или не завалилось ли за диван? Вот спинка-то у дивана до сих пор непочинена; что б тебе призвать столяра да починить? Ведь ты же изломал. Ни о чем не подумаешь!
– Я не ломал, – отвечал Захар, – она сама изломалась; не век же ей быть: надо когда-нибудь изломаться.
Илья Ильич не счел за нужное доказывать противное.
– Нашел, что ли? – спросил он только.
– Вот какие-то письма.
– Ну, так нет больше, – говорил Захар.
– Ну хорошо, поди! – с нетерпением сказал Илья Ильич, – я встану, сам найду.
Захар пошел к себе, но только он уперся было руками о лежанку, чтоб прыгнуть на нее, как опять послышался торопливый крик: «Захар, Захар!»
– Ах ты, Господи! – ворчал Захар, отправляясь опять в кабинет. – Что это за мученье! Хоть бы смерть скорее пришла!
– Чего вам? – сказал он, придерживаясь одной рукой за дверь кабинета и глядя на Обломова, в знак неблаговоления, до того стороной, что ему приходилось видеть барина вполглаза, а барину видна была только одна необъятная бакенбарда, из которой так и ждешь, что вылетят две-три птицы.
– Носовой платок, скорей! Сам бы ты мог догадаться: не видишь! – строго заметил Илья Ильич.
Захар не обнаружил никакого особенного неудовольствия или удивления при этом приказании и упреке барина, находя, вероятно, с своей стороны и то и другое весьма естественным.
– А кто его знает, где платок? – ворчал он, обходя вокруг комнату и ощупывая каждый стул, хотя и так можно было видеть, что на стульях ничего не лежит.
– Все теряете! – заметил он, отворяя дверь в гостиную, чтоб посмотреть, нет ли там.
– Куда? Здесь ищи! Я с третьего дня там не был. Да скорее же! – говорил Илья Ильич.
– Где платок? Нету платка! – говорил Захар, разводя руками и озираясь во все углы. – Да вон он, – вдруг сердито захрипел он, – под вами! Вон конец торчит. Сами лежите на нем, а спрашиваете платка!
И, не дожидаясь ответа, Захар пошел было вон. Обломову стало немного неловко от собственного промаха. Он быстро нашел другой повод сделать Захара виноватым.
– Какая у тебя чистота везде: пыли-то, грязи-то, Боже мой! Вон, вон, погляди-ка в углах-то – ничего не делаешь!
– Уж коли я ничего не делаю… – заговорил Захар обиженным голосом, – стараюсь, жизни не жалею! И пыль-то стираю, и мету-то почти каждый день…
Он указал на середину пола и на стол, на котором Обломов обедал.
– Вон, вон, – говорил он, – все подметено, прибрано, словно к свадьбе… Чего еще?
– А это что? – прервал Илья Ильич, указывая на стены и на потолок. – А это? А это? – Он указал и на брошенное со вчерашнего дня полотенце, и на забытую на столе тарелку с ломтем хлеба.
– Ну, это, пожалуй, уберу, – сказал Захар снисходительно, взяв тарелку.
– Только это! А пыль по стенам, а паутина?.. – говорил Обломов, указывая на стены.
– Это я к святой неделе убираю; тогда образа чищу и паутину снимаю…
– А книги, картины обмести?..
– Книги и картины перед Рождеством: тогда с Анисьей все шкапы переберем. А теперь когда станешь убирать? Вы всё дома сидите.
– Я иногда в театр хожу да в гости; вот бы…
– Что за уборка ночью!
Обломов с упреком поглядел на него, покачал головой и вздохнул, а Захар равнодушно поглядел в окно и тоже вздохнул. Барин, кажется, думал: «Ну, брат, ты еще больше Обломов, нежели я сам», а Захар чуть ли не подумал: «Врешь! ты только мастер говорить мудреные да жалкие слова, а до пыли и до паутины тебе и дела нет».
– Понимаешь ли ты, – сказал Илья Ильич, – что от пыли заводится моль? Я иногда даже вижу клопа на стене!
– У меня и блохи есть! – равнодушно отозвался Захар.
– Разве это хорошо? Ведь это гадость! – заметил Обломов.
Захар усмехнулся во все лицо, так что усмешка охватила даже брови и бакенбарды, которые от этого раздвинулись в стороны, и по всему лицу до самого лба расплылось красное пятно.
– Чем же я виноват, что клопы на свете есть? – сказал он с наивным удивлением. – Разве я их выдумал?
– Это от нечистоты, – перебил Обломов. – Что ты все врешь!
– И нечистоту не я выдумал.
– У тебя, вот, там, мыши бегают по ночам – я слышу.
– И мышей не я выдумал. Этой твари, что мышей, что кошек, что клопов, везде много.
– Как же у других не бывает ни моли, ни клопов?
На лице Захара выразилась недоверчивость, или, лучше сказать, покойная уверенность, что этого не бывает.
– У меня всего много, – сказал он упрямо, – за всяким клопом не усмотришь, в щелку к нему не влезешь.
А сам, кажется, думал: «Да и что за спанье без клопа?»
– Ты мети, выбирай сор из углов – и не будет ничего, – учил Обломов.
– Уберешь, а завтра опять наберется, – говорил Захар.
– Не наберется, – перебил барин, – не должно.
– Наберется – я знаю, – твердил слуга.
– А наберется, так опять вымети.
– Как это? Всякий день перебирай все углы? – спросил Захар. – Да что ж это за жизнь? Лучше Бог по душу пошли!
– Отчего ж у других чисто? – возразил Обломов. – Посмотри напротив, у настройщика: любо взглянуть, а всего одна девка…
– А где немцы сору возьмут, – вдруг возразил Захар. – Вы поглядите-ка, как они живут! Вся семья целую неделю кость гложет. Сюртук с плеч отца переходит на сына, а с сына опять на отца. На жене и дочерях платьишки коротенькие: всё поджимают под себя ноги, как гусыни… Где им сору взять? У них нет этого вот, как у нас, чтоб в шкапах лежала по годам куча старого изношенного платья или набрался целый угол корок хлеба за зиму… У них и корка зря не валяется: наделают сухариков да с пивом и выпьют!
Захар даже сквозь зубы плюнул, рассуждая о таком скаредном житье.
– Нечего разговаривать! – возразил Илья Ильич, – ты лучше убирай.
– Иной раз и убрал бы, да вы же сами не даете, – сказал Захар.
– Пошел свое! Все, видишь, я мешаю.
– Конечно, вы; все дома сидите: как при вас станешь убирать? Уйдите на целый день, так и уберу.
– Вот еще выдумал что – уйти! Поди-ка ты лучше к себе.
– Да право! – настаивал Захар. – Вот, хоть бы сегодня ушли, мы бы с Анисьей и убрали все. И то не управимся вдвоем-то: надо еще баб нанять, перемыть все.
– Э! какие затеи – баб! Ступай себе, – говорил Илья Ильич.
Он уж был не рад, что вызвал Захара на этот разговор. Он все забывал, что чуть тронешь этот деликатный предмет, так и не оберешься хлопот.
Обломову и хотелось бы, чтоб было чисто, да он бы желал, чтоб это сделалось как-нибудь так, незаметно, само собой; а Захар всегда заводил тяжбу, лишь только начинали требовать от него сметания пыли, мытья полов и т. п. Он в таком случае станет доказывать необходимость громадной возни в доме, зная очень хорошо, что одна мысль об этом приводила барина его в ужас.
Захар ушел, а Обломов погрузился в размышления. Чрез несколько минут пробило еще полчаса.
– Что это? – почти с ужасом сказал Илья Ильич. – Одиннадцать часов скоро, а я еще не встал, не умылся до сих пор? Захар, Захар!
– Ах ты, Боже мой! Ну! – послышалось из передней, и потом известный прыжок.
– Умыться готово? – спросил Обломов.
– Готово давно! – отвечал Захар, – чего вы не встаете?
– Что ж ты не скажешь, что готово? Я бы уж и встал давно. Поди же, я сейчас иду вслед за тобою. Мне надо заниматься, я сяду писать.
Захар ушел, но чрез минуту воротился с исписанной и замасленной тетрадкой и клочками бумаги.
– Вот, коли будете писать, так уж кстати извольте и счеты поверить: надо деньги заплатить.
– Какие счеты? Какие деньги? – с неудовольствием спросил Илья Ильич.
– От мясника, от зеленщика, от прачки, от хлебника: все денег просят.
– Только о деньгах и забота! – ворчал Илья Ильич. – А ты что понемногу не подаешь счеты, а все вдруг?
– Вы же ведь все прогоняли меня: завтра да завтра…
– Ну, так и теперь разве нельзя до завтра?
– Нет! Уж очень пристают: больше не дают в долг. Нынче первое число.
– Ах! – с тоской сказал Обломов. – Новая забота! Ну, что стоишь? Положи на стол. Я сейчас встану, умоюсь и посмотрю, – сказал Илья Ильич. – Так умыться-то готово?
– Готово! – сказал Захар.
– Ну, теперь…
Он начал было, кряхтя, приподниматься на постели, чтоб встать.
– Я забыл вам сказать, – начал Захар, – давеча, как вы еще почивали, управляющий дворника прислал: говорит, что непременно надо съехать… квартира нужна.
– Ну, что ж такое? Если нужна, так, разумеется, съедем. Что ты пристаешь ко мне? Уж ты третий раз говоришь мне об этом.
– Ко мне пристают тоже.
– Скажи, что съедем.
– Они говорят: вы уж с месяц, говорят, обещали, а все не съезжаете, мы, говорят, полиции дадим знать.
– Пусть дают знать! – сказал решительно Обломов. – Мы и сами переедем, как потеплее будет, недели через три.
– Куда недели через три! Управляющий говорит, что чрез две недели рабочие придут: ломать все будут… «Съезжайте, говорит, завтра или послезавтра…»
– Э-э-э! слишком проворно! Видишь, еще что! Не сейчас ли прикажете? А ты мне не смей и напоминать о квартире. Я уж тебе запретил раз; а ты опять. Смотри!
– Что ж мне делать-то? – отозвался Захар.
– Что ж делать? – вот он чем отделывается от меня! – отвечал Илья Ильич. – Он меня спрашивает! Мне что за дело? Ты не беспокой меня, а там, как хочешь, так и распорядись, только чтоб не переезжать. Не может постараться для барина!
– Да как же, батюшка, Илья Ильич, я распоряжусь? – начал мягким сипеньем Захар. – Дом-то не мой: как же из чужого дома не переезжать, коли гонят? Кабы мой дом был, так я бы с великим моим удовольствием…
– Нельзя ли их уговорить как-нибудь. «Мы, дескать, живем давно, платим исправно».
– Говорил, – сказал Захар.
– Ну, что ж они?
– Что! Наладили свое: «Переезжайте, говорят, нам нужно квартиру переделывать». Хотят из докторской и из этой одну большую квартиру сделать, к свадьбе хозяйского сына.
– Ах ты, Боже мой! – с досадой сказал Обломов. – Ведь есть же этакие ослы, что женятся!
Он повернулся на спину.
– Вы бы написали, сударь, к хозяину, – сказал Захар, – так, может быть, он бы вас не тронул, а велел бы сначала вон ту квартиру ломать.
Захар при этом показал рукой куда-то направо.
– Ну, хорошо, как встану, напишу… Ты ступай к себе, а я подумаю. Ничего ты не умеешь сделать, – добавил он, – мне и об этой дряни надо самому хлопотать.
Захар ушел, а Обломов стал думать.
Но он был в затруднении, о чем думать: о письме ли старосты, о переезде ли на новую квартиру, приняться ли сводить счеты? Он терялся в приливе житейских забот и все лежал, ворочаясь с боку на бок. По временам только слышались отрывистые восклицания: «Ах, Боже мой! Трогает жизнь, везде достает».
Неизвестно, долго ли бы еще пробыл он в этой нерешительности, но в передней раздался звонок.
– Уж кто-то и пришел! – сказал Обломов, кутаясь в халат. – А я еще не вставал – срам, да и только! Кто бы это так рано?
И он, лежа, с любопытством глядел на двери.
Роман в четырех частях
Часть первая
I
В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселения которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели, на своей квартире, Илья Ильич Обломов. Это был человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока. Иногда взгляд его помрачался выражением будто усталости или скуки; но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и основным выражением, не лица только, а всей души; а душа так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, руки. И поверхностно наблюдательный, холодный человек, взглянув мимоходом на Обломова, сказал бы: «Добряк должен быть, простота!» Человек поглубже и посимпатичнее, долго вглядываясь в лицо его, отошел бы в приятном раздумье, с улыбкой. Цвет лица у Ильи Ильича не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а безразличный или казался таким, может быть, потому, что Обломов как-то обрюзг не по летам: от недостатка ли движения или воздуха, а может быть, того и другого. Вообще же тело его, судя по матовому, чересчур белому свету шеи, маленьких пухлых рук, мягких плеч, казалось слишком изнеженным для мужчины. Движения его, когда он был даже встревожен, сдерживались также мягкостью и не лишенною своего рода грации ленью. Если на лицо набегала из души туча заботы, взгляд туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнений, печали, испуга; но редко тревога эта застывала в форме определенной идеи, еще реже превращалась в намерение. Вся тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии или в дремоте. Как шел домашний костюм Обломова к покойным чертам лица его и к изнеженному телу! На нем был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что и Обломов мог дважды завернуться в него. Рукава, по неизменной азиатской моде, шли от пальцев к плечу все шире и шире. Хотя халат этот и утратил свою первоначальную свежесть и местами заменил свой первобытный, естественный лоск другим, благоприобретенным, но все еще сохранял яркость восточной краски и прочность ткани. Халат имел в глазах Обломова тьму неоцененных достоинств: он мягок, гибок; тело не чувствует его на себе; он, как послушный раб, покоряется самомалейшему движению тела. Обломов всегда ходил дома без галстука и без жилета, потому что любил простор и приволье. Туфли на нем были длинные, мягкие и широкие; когда он, не глядя, опускал ноги с постели на пол, то непременно попадал в них сразу. Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя: это было его нормальным состоянием. Когда он был дома а он был почти всегда дома, он все лежал, и все постоянно в одной комнате, где мы его нашли, служившей ему спальней, кабинетом и приемной. У него было еще три комнаты, но он редко туда заглядывал, утром разве, и то не всякий день, когда человек мёл кабинет его, чего всякий день не делалось. В тех комнатах мебель закрыта была чехлами, шторы спущены. Комната, где лежал Илья Ильич, с первого взгляда казалась прекрасно убранною. Там стояло бюро красного дерева, два дивана, обитые шелковою материею, красивые ширмы с вышитыми небывалыми в природе птицами и плодами. Были там шелковые занавесы, ковры, несколько картин, бронза, фарфор и множество красивых мелочей. Но опытный глаз человека с чистым вкусом одним беглым взглядом на все, что тут было, прочел бы только желание кое-как соблюсти decorum неизбежных приличий, лишь бы отделаться от них. Обломов хлопотал, конечно, только об этом, когда убирал свой кабинет. Утонченный вкус не удовольствовался бы этими тяжелыми, неграциозными стульями красного дерева, шаткими этажерками. Задок у одного дивана оселся вниз, наклеенное дерево местами отстало. Точно тот же характер носили на себе и картины, и вазы, и мелочи. Сам хозяин, однако, смотрел на убранство своего кабинета так холодно и рассеянно, как будто спрашивал глазами: «Кто сюда натащил и наставил все это?» От такого холодного воззрения Обломова на свою собственность, а может быть, и еще от более холодного воззрения на тот же предмет слуги его, Захара, вид кабинета, если осмотреть там все повнимательнее, поражал господствующею в нем запущенностью и небрежностью. По стенам, около картин, лепилась в виде фестонов паутина, напитанная пылью; зеркала, вместо того чтоб отражать предметы, могли бы служить скорее скрижалями для записывания на них по пыли каких-нибудь заметок на память. Ковры были в пятнах. На диване лежало забытое полотенце; на столе редкое утро не стояла не убранная от вчерашнего ужина тарелка с солонкой и с обглоданной косточкой да не валялись хлебные крошки. Если б не эта тарелка, да не прислоненная к постели только что выкуренная трубка, или не сам хозяин, лежащий на ней, то можно было бы подумать, что тут никто не живет так все запылилось, полиняло и вообще лишено было живых следов человеческого присутствия. На этажерках, правда, лежали две-три развернутые книги, валялась газета, на бюро стояла и чернильница с перьями; но страницы, на которых развернуты были книги, покрылись пылью и пожелтели; видно, что их бросили давно; нумер газеты был прошлогодний, а из чернильницы, если обмакнуть в нее перо, вырвалась бы разве только с жужжаньем испуганная муха. Илья Ильич проснулся, против обыкновения, очень рано, часов в восемь. Он чем-то сильно озабочен. На лице у него попеременно выступал не то страх, не то тоска и досада. Видно было, что его одолевала внутренняя борьба, а ум еще не являлся на помощь. Дело в том, что Обломов накануне получил из деревни, от своего старосты, письмо неприятного содержания. Известно, о каких неприятностях может писать староста: неурожай, недоимки, уменьшение дохода и т. п. Хотя староста и в прошлом и в третьем году писал к своему барину точно такие же письма, но и это последнее письмо подействовало так же сильно, как всякий неприятный сюрприз. Легко ли? Предстояло думать о средствах к принятию каких-нибудь мер. Впрочем, надо отдать справедливость заботливости Ильи Ильича о своих делах. Он по первому неприятному письму старосты, полученному несколько лет назад, уже стал создавать в уме план разных перемен и улучшений в порядке управления своим имением. По этому плану предполагалось ввести разные новые экономические, полицейские и другие меры. Но план был еще далеко не весь обдуман, а неприятные письма старосты ежегодно повторялись, побуждали его к деятельности и, следовательно, нарушали покой. Обломов сознавал необходимость до окончания плана предпринять что-нибудь решительное. Он, как только проснулся, тотчас же вознамерился встать, умыться и, напившись чаю, подумать хорошенько, кое-что сообразить, записать и вообще заняться этим делом как следует. С полчаса он все лежал, мучась этим намерением, но потом рассудил, что успеет еще сделать это и после чаю, а чай можно пить, по обыкновению, в постели, тем более, что ничто не мешает думать и лежа. Так и сделал. После чаю он уже приподнялся с своего ложа и чуть было не встал; поглядывая на туфли, он даже начал спускать к ним одну ногу с постели, но тотчас же опять подобрал ее. Пробило половина десятого, Илья Ильич встрепенулся. Что ж это я в самом деле? сказал он вслух с досадой. Надо совесть знать: пора за дело! Дай только волю себе, так и... Захар! закричал он. В комнате, которая отделялась только небольшим коридором от кабинета Ильи Ильича, послышалось сначала точно ворчанье цепной собаки, потом стук спрыгнувших откуда-то ног. Это Захар спрыгнул с лежанки, на которой обыкновенно проводил время, сидя погруженный в дремоту. В комнату вошел пожилой человек, в сером сюртуке, с прорехою под мышкой, откуда торчал клочок рубашки, в сером же жилете, с медными пуговицами, с голым, как колено, черепом и с необъятно широкими и густыми русыми с проседью бакенбардами, из которых каждой стало бы на три бороды. Захар не старался изменить не только данного ему богом образа, но и своего костюма, в котором ходил в деревне. Платье ему шилось по вывезенному им из деревни образцу. Серый сюртук и жилет нравились ему и потому, что в этой полуформенной одежде он видел слабое воспоминание ливреи, которую он носил некогда, провожая покойных господ в церковь или в гости; а ливрея в воспоминаниях его была единственною представительницею достоинства дома Обломовых. Более ничто не напоминало старику барского широкого и покойного быта в глуши деревни. Старые господа умерли, фамильные портреты остались дома и, чай, валяются где-нибудь на чердаке; предания о старинном быте и важности фамилии всё глохнут или живут только в памяти немногих, оставшихся в деревне же стариков. Поэтому для Захара дорог был серый сюртук: в нем да еще в кое-каких признаках, сохранившихся в лице и манерах барина, напоминавших его родителей, и в его капризах, на которые хотя он и ворчал, и про себя и вслух, но которые между тем уважал внутренне, как проявление барской воли, господского права, видел он слабые намеки на отжившее величие. Без этих капризов он как-то не чувствовал над собой барина; без них ничто не воскрешало молодости его, деревни, которую они покинули давно, и преданий об этом старинном доме, единственной хроники, веденной старыми слугами, няньками, мамками и передаваемой из рода в род. Дом Обломовых был когда-то богат и знаменит в своей стороне, но потом, бог знает отчего, все беднел, мельчал и наконец незаметно потерялся между не старыми дворянскими домами. Только поседевшие слуги дома хранили и передавали друг другу верную память о минувшем, дорожа ею, как святынею. Вот отчего Захар так любил свой серый сюртук. Может быть, и бакенбардами своими он дорожил потому, что видел в детстве своем много старых слуг с этим старинным, аристократическим украшением. Илья Ильич, погруженный в задумчивость, долго не замечал Захара. Захар стоял перед ним молча. Наконец он кашлянул. Что ты? спросил Илья Ильич. Ведь вы звали? Звал? Зачем же это я звал не помню! отвечал он потягиваясь. Поди пока к себе, а я вспомню. Захар ушел, а Илья Ильич продолжал лежать и думать о проклятом письме. Прошло с четверть часа. Ну, полно лежать! сказал он, надо же встать... А впрочем, дай-ка я прочту еще раз со вниманием письмо старосты, а потом уж и встану. Захар! Опять тот же прыжок и ворчанье сильнее. Захар вошел, а Обломов опять погрузился в задумчивость. Захар стоял минуты две, неблагосклонно, немного стороной посматривая на барина, и наконец пошел к дверям. Куда же ты? вдруг спросил Обломов. Вы ничего не говорите, так что ж тут стоять-то даром? захрипел Захар, за неимением другого голоса, который, по словам его, он потерял на охоте с собаками, когда ездил с старым барином и когда ему дунуло будто сильным ветром в горло. Он стоял вполуоборот среди комнаты и глядел все стороной на Обломова. А у тебя разве ноги отсохли, что ты не можешь постоять? Ты видишь, я озабочен так и подожди! Не залежался еще там? Сыщи письмо, что я вчера от старосты получил. Куда ты его дел? Какое письмо? Я никакого письма не видал, сказал Захар. Ты же от почтальона принял его: грязное такое! Куда ж его положили почему мне знать? говорил Захар, похлопывая рукой по бумагам и по разным вещам, лежавшим на столе. Ты никогда ничего не знаешь. Там, в корзине, посмотри! Или не завалилось ли за диван? Вот спинка-то у дивана до сих пор не починена; что б тебе призвать столяра да починить? Ведь ты же изломал. Ни о чем не подумаешь! Я не ломал, отвечал Захар, она сама изломалась; не век же ей быть: надо когда-нибудь изломаться. Илья Ильич не счел за нужное доказывать противное. Нашел, что ли? спросил он только. Вот какие-то письма. Не те. Ну, так нет больше, говорил Захар. Ну хорошо, поди! с нетерпением сказал Илья Ильич. Я встану, сам найду. Захар пошел к себе, но только он уперся было руками о лежанку, чтоб прыгнуть на нее, как опять послышался торопливый крик: «Захар, Захар!» Ах ты, господи! ворчал Захар, отправляясь опять в кабинет. Что это за мученье? Хоть бы смерть скорее пришла! Чего вам? сказал он, придерживаясь одной рукой за дверь кабинета и глядя на Обломова, в знак неблаговоления, до того стороной, что ему приходилось видеть барина вполглаза, а барину видна была только одна необъятная бакенбарда, из которой, так и ждешь, что вылетят две-три птицы. Носовой платок, скорей! Сам бы ты мог догадаться: не видишь! строго заметил Илья Ильич. Захар не обнаружил никакого особенного неудовольствия, или удивления при этом приказании и упреке барина, находя, вероятно, с своей стороны и то и другое весьма естественным. А кто его знает, где платок? ворчал он, обходя вокруг комнату и ощупывая каждый стул, хотя и так можно было видеть, что на стульях ничего не лежит. Всё теряете! заметил он, отворяя дверь в гостиную, чтоб посмотреть, нет ли там. Куда? Здесь ищи! Я с третьего дня там не был. Да скорее же! говорил Илья Ильич. Где платок? Нету платка! говорил Захар, разводя руками и озираясь во все углы. Да вон он, вдруг сердито захрипел он, под вами! Вон конец торчит. Сами лежите на нем, а спрашиваете платка! И, не дожидаясь ответа, Захар пошел было вон. Обломову стало немного неловко от собственного промаха. Он быстро нашел другой повод сделать Захара виноватым. Какая у тебя чистота везде: пыли-то, грязи-то, боже мой! Вон, вон, погляди-ка в углах-то ничего не делаешь! Уж коли я ничего не делаю... заговорил Захар обиженным голосом, стараюсь, жизни не жалею! И пыль-то стираю и мету-то почти каждый день... Он указал на середину пола и на стол, на котором Обломов обедал. Вон, вон, говорил он, все подметено, прибрано, словно к свадьбе... Чего еще? А это что? прервал Илья Ильич, указывая на стены и на потолок. А это? А это? Он указал и на брошенное со вчерашнего дня полотенце и на забытую, на столе тарелку с ломтем хлеба. Ну, это, пожалуй, уберу, сказал Захар снисходительно, взяв тарелку. Только это! А пыль по стенам, а паутина?.. говорил Обломов, указывая на стены. Это я к святой неделе убираю: тогда образа чищу и паутину снимаю... А книги, картины обмести?.. Книги и картины перед рождеством: тогда с Анисьей все шкафы переберем. А теперь когда станешь убирать? Вы все дома сидите. Я иногда в театр хожу да в гости: вот бы... Что за уборка ночью! Обломов с упреком поглядел на него, покачал головой и вздохнул, а Захар равнодушно поглядел в окно и тоже вздохнул. Барин, кажется, думал: «Ну, брат, ты еще больше Обломов, нежели я сам», а Захар чуть ли не подумал: «Врешь! ты только мастер говорить мудреные да жалкие слова, а до пыли и до паутины тебе и дела нет». Понимаешь ли ты, сказал Илья Ильич, что от пыли заводится моль? Я иногда даже вижу клопа на стене! У меня и блохи есть! равнодушно отозвался Захар. Разве это хорошо? Ведь это гадость! заметил Обломов. Захар усмехнулся во все лицо, так что усмешка охватила даже брови и бакенбарды, которые от этого раздвинулись в стороны, и по всему лицу до самого лба расплылось красное пятно. Чем же я виноват, что клопы на свете есть? сказал он с наивным удивлением. Разве я их выдумал? Это от нечистоты, перебил Обломов. Что ты все врешь! И нечистоту не я выдумал. У тебя вот там мыши бегают по ночам я слышу. И мышей не я выдумал. Этой твари, что мышей, что кошек, что клопов, везде много. Как же у других не бывает ни моли, ни клопов? На лице Захара выразилась недоверчивость, или, лучше сказать, покойная уверенность, что этого не бывает. У меня всего много, сказал он упрямо, за всяким клопом не усмотришь, в щелку к нему не влезешь. А сам, кажется, думал: «Да и что за спанье без клопа?» Ты мети, выбирай сор из углов и не будет ничего, учил Обломов. Уберешь, а завтра опять наберется, говорил Захар. Не наберется, перебил барин, не должно. Наберется я знаю, твердил слуга. А наберется, так опять вымети. Как это? Всякий день перебирай все углы? спросил Захар. Да что ж это за жизнь? Лучше бог по душу пошли! Отчего ж у других чисто? возразил Обломов. Посмотри напротив, у настройщика: любо взглянуть, а всего одна девка... А где немцы сору возьмут, вдруг возразил Захар. Вы поглядите-ко, как они живут! Вся семья целую неделю кость гложет. Сюртук с плеч отца переходит на сына, а с сына опять на отца. На жене и дочерях платьишки коротенькие: все поджимают под себя ноги, как гусыни... Где им сору взять? У них нет этого вот, как у нас, чтоб в шкафах лежала по годам куча старого, изношенного платья или набрался целый угол корок хлеба за зиму... У них и корка зря не валяется: наделают сухариков, да с пивом и выпьют! Захар даже сквозь зубы плюнул, рассуждая о таком скаредном житье. Нечего разговаривать! возразил Илья Ильич, ты лучше убирай. Иной раз и убрал бы, да вы же сами не даете, сказал Захар. Пошел свое! Все, видишь, я мешаю. Конечно, вы; все дома сидите: как при вас станешь убирать? Уйдите на целый день, так и уберу. Вот еще выдумал что уйти! Поди-ка ты лучше к себе. Да право! настаивал Захар. Вот, хоть бы сегодня ушли, мы бы с Анисьей и убрали все. И то не управимся вдвоем-то: надо еще баб нанять, перемыть все. Э! какие затеи баб! Ступай себе, говорил Илья Ильич. Он уж был не рад, что вызвал Захара на этот разговор. Он все забывал, что чуть тронешь этот деликатный предмет, как и не оберешься хлопот. Обломову и хотелось бы, чтоб было чисто, да он бы желал, чтоб это сделалось как-нибудь так, незаметно, само собой; а Захар всегда заводил тяжбу, лишь только начинали требовать от него сметания пыли, мытья полов и т.п. Он в таком случае станет доказывать необходимость громадной возни в доме, зная очень хорошо, что одна мысль об этом приводила барина его в ужас. Захар ушел, а Обломов погрузился в размышления. Через несколько минут пробило еще полчаса. Что это? почти с ужасом сказал Илья Ильич. Одиннадцать часов скоро, а я еще не встал, не умылся до сих пор? Захар, Захар! Ах ты, боже мой! Ну! послышалось из передней, и потом известный прыжок. Умыться готово? спросил Обломов. Готово давно! отвечал Захар. Чего вы не встаете? Что ж ты не скажешь, что готово? Я бы уж и встал давно. Поди же, я сейчас иду вслед за тобою. Мне надо заниматься, я сяду писать. Захар ушел, но чрез минуту воротился с исписанной и замасленной тетрадкой и клочками бумаги. Вот, коли будете писать, так уж кстати извольте и счеты поверить: надо деньги заплатить. Какие счеты? Какие деньги? с неудовольствием спросил Илья Ильич. От мясника, от зеленщика, от прачки, от хлебника: все денег просят. Только о деньгах и забота! ворчал Илья Ильич. А ты что понемногу не подаешь счеты, а все вдруг? Вы же ведь все прогоняли меня: завтра да завтра... Ну, так и теперь разве нельзя до завтра? Нет! Уж очень пристают: больше не дают в долг. Нынче первое число. Ах! с тоской сказал Обломов. Новая забота! Ну, что стоишь? Положи на стол. Я сейчас встану, умоюсь и посмотрю, сказал Илья Ильич. Так умыться-то готово? Готово! сказал Захар. Ну, теперь... Он начал было, кряхтя, приподниматься на постели, чтоб встать. Я забыл вам сказать, начал Захар, давеча, как вы еще почивали, управляющий дворника прислал: говорит, что непременно надо съехать... квартира нужна. Ну, что ж такое? Если нужна, так, разумеется, съедем. Что ты пристаешь ко мне? Уж ты третий раз говоришь мне об этом. Ко мне пристают тоже. Скажи, что съедем. Они говорят: вы уж с месяц, говорят, обещали, а все не съезжаете; мы, говорят, полиции дадим знать. Пусть дают знать! сказал решительно Обломов. Мы и сами переедем, как потеплее будет, недели через три. Куда недели через три! Управляющий говорит, что чрез две недели рабочие придут: ломать все будут... «Съезжайте, говорит, завтра или послезавтра...» Э-э-э! слишком проворно! Видишь, еще что! Не сейчас ли прикажете? А ты мне не смей и напоминать о квартире. Я уж тебе запретил раз; а ты опять. Смотри! Что ж мне делать-то? отозвался Захар. Что ж делать? вот он чем отделывается от меня! отвечал Илья Ильич. Он меня спрашивает! Мне что за дело? Ты не беспокой меня, а там как хочешь, так и распорядись, только чтоб не переезжать. Не может постараться для барина! Да как же, батюшка, Илья Ильич, я распоряжусь? начал мягким сипеньем Захар. Дом-то не мой: как же из чужого дома не переезжать, коли гонят? Кабы мой дом был, так я бы с великим моим удовольствием... Нельзя ли их уговорить как-нибудь. «Мы, дескать, живем давно, платим исправно». Говорил, сказал Захар. Ну, что ж они? Что! Наладили свое: «Переезжайте, говорят, нам нужно квартиру переделывать». Хотят из докторской и из этой одну большую квартиру сделать, к свадьбе хозяйского сына. Ах ты, боже мой! с досадой сказал Обломов. Ведь есть же этакие ослы, что женятся! Он повернулся на спину. Вы бы написали, сударь, к хозяину, сказал Захар, так, может быть, он бы вас не тронул, а велел бы сначала вон ту квартиру ломать. Захар при этом показал рукой куда-то направо. Ну хорошо, как встану, напишу... Ты ступай к себе, а я подумаю. Ничего ты не умеешь сделать, добавил он, мне и об этой дряни надо самому хлопотать. Захар ушел, а Обломов стал думать. Но он был в затруднении, о чем думать: о письме ли старосты, о переезде ли на новую квартиру, приняться ли сводить счеты? Он терялся в приливе житейских забот и все лежал, ворочаясь с боку на бок. По временам только слышались отрывистые восклицания: «Ах, боже мой! Трогает жизнь, везде достает». Неизвестно, долго ли бы еще пробыл он в этой нерешительности, но в передней раздался звонок. Уж кто-то и пришел! сказал Обломов, кутаясь в халат. А я еще не вставал срам да и только! Кто бы это так рано? И он, лежа, с любопытством глядел на двери.В Гороховой улице в одном из больших домов живет Илья Ильич Обломов.
«Это был человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности... На нем был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что и Обломов мог дважды завернуться в него... Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя: это было его нормальным состоянием... Комната, где лежал Илья Ильич, с первого взгляда казалась прекрасно убранною... Но опытный глаз человека с чистым вкусом одним беглым взглядом на все, что тут было, прочел бы желание только кое-как соблюсти decorum неизбежных приличий, лишь бы отделаться от них... По стенам, около картин, лепилась в виде фестонов паутина, напитанная пылью; зеркала вместо того чтоб отражать предметы, могли бы служить скорее скрижалями для записывания на них, по пыли, каких-нибудь заметок на память... Ковры были в пятнах. На диване лежало забытое полотенце; на столе редкое утро не стояла не убранная от вчерашнего ужина тарелка с солонкой и с обглоданной косточкой да не валялись хлебные крошки».
Обломов находится в дурном расположении духа, так как получил из деревни от старосты письмо, который жалуется на засуху, неурожаи и в связи с этим сокращает объем денег, отсылаемых барину. Обломоз тяготится, что теперь придется думать еще и об зтом. Получив несколько лет назад подобное письмо, он начал было придумывать план всевозможных усовершенствований и улучшений в своем псместьи. Так это с тех пор и тянется. Обломсз думает встать и умыться, но потом решает сделать это пспозжэ. Зовет Захара. Захар - слуга Обломова - крайне консервативен, носит такой же костюм, что носил и в деревне - серый сюртук. «Дом Обломовых был когда-то богат и знаменит в своей стороне, но потом, бог знает отчего, все беднел, мельчал и, наконец, незаметно потерялся между нестарыми дворянскими домами. Только поседевшие слуги дома хранили и передавали друг другу верную память о минувшем, дорожа ею, как святынею».
Обломов упрекает Захара за неряшливость и лень, за то, что он не убирает пыли и грязи. Захар возражает, что «чего ее убирать, если она снова наберется» и что клопов и тараканов не он выдумал, они у всех есть. Захар плутоват, присваивает сдачу с покупок, но только медные деньги, так как «потребности свои измерял медью». Он постоянно препирается с барином из-за всякой мелочи, прекрасно зная, что тот не выдержит и махнет на все рукой. «Слуга старого времени удерживал, бывало, барина от расточительности и невоздержания, а Захар сам любил выпить с приятелями на барский счет; прежний слуга был целомудрен, как евнух, а этот все бегал к куме подозрительного свойства. Тот крепче всякого сундука сбережет барские деньги, а Захар норовит усчитать у барина при какой-нибудь издержке гривенник и непременно присвоит себе лежащую на столе медную гривну или пятак». Несмотря на все это, он был глубоко преданный своему барину слуга. «Он бы не задумался сгореть или утонуть за него, не считая этого подвигом, достойным удивления или каких-нибудь наград». Они давно знали друг друга и давно жили вдвоем. Захар нянчил маленького Обломова на руках, а Обломов помнит его «молодым, проворным, прожорливым и лукавым парнем». «Как Илья Ильич не умел ни встать, ни лечь спать, ни быть причесанным и обутым, ни отобедать без помощи Захара, так Захар не умел представить себе другого барина, кроме Ильи Ильича, другого существования, как одевать, кормить его, грубить ему, лукавить, лгать и в то же время внутренне благоговеть перед ним».
К Обломову приходят посетители, рассказывают о своей жизни, о новостях, зовут Обломова на первомайские гулянья в Екатерингоф. Тот отнекивается, ссылаясь то на дождь, то на ветер, то на дела. Первый из посетителей - Волков, «молодой человек лет двадцати пяти, блещущий здоровьем, с смеющимися щеками, губами и глазами». Он рассказывает о визитах, о новом фраке, о том, что влюблен, что ездит в разные дома на «среды», «пятницы» и «четверги», хвастает новыми перчатками и т. д.
Следующим приходит Судьбинский, с которым Обломов служил канцелярским чиновником. Судьбинский сделал карьеру, получает большое жалованье, весь в делах, скоро будет представлен к ордену, собирается жениться на дочери статского советника, в приданое берет 10 тыс., казенную квартиру в 12 комнат и т. д.
Следующим приходит «худощавый, черненький господин, заросший весь бакенбардами, усами и эспаньолкой. Он был одет с умышленной небрежностью». Фамилия его - Пенкин, он сочинитель. Пенкин интересуется, не читал ли Обломов его статью «о торговле, об эмансипации женщин, о прекрасных апрельских днях, о вновь изобретенном составе против пожаров». Пенкин ратует за «реальное направление в литературе», написал рассказ о том, «как в одном городе городничий бьет мещан по зубам», советует прочесть «великолепную вещь», в которой «слышится то Дант, то Шекспир» и автор которой бесспорно велик - «Любовь взяточника к падшей женщине». Обломов относится к его словам скептически и говорит, что не станет читать. На вопрос Пенкина, что он читает, Обломов отвечает, что «больше все путешествия».
Входит следующий гость - Алексеев, «человек неопределенных лет, с неопределенной физиономией... Его многие называли Иваном Иванычем, другие - Иваном Васильевичем, третьи - Иваном Михайловичем... Присутствие его ничего не придаст обществу, так же как отсутствие ничего не отнимет от него... Если при таком человеке подадут другие нищему милостыню - и он бросит ему свой грош, а если обругают, или прогонят, или посмеются - так и он обругает и посмеется с другими... В службе у него нет особенного постоянного занятия, потому что никак не могли заметить сослуживцы и начальники, что он делает хуже, что лучше, так, чтоб можно было определить, к чему именно он способен... Встретится ему знакомый на улице. «Куда? - спросит. «Да вот иду на службу, или в магазин, или проведать кого-нибудь». «Пойдем лучше со мной, - скажет тот, - на почту, или зайдем к портному, или прогуляемся», - и он идет с ним, заходит и к портному, и на почту, и прогуливается в противоположную сторону от той, куда шел».
Всем гостям Обломов пытается пожаловаться на свои «две беды» - на деревенского старосту и на то, что его заставляют под предлогом ремонта съезжать с квартиры. Но никто не хочет слушать, все заняты своими делами.
Приходит следующий посетитель - Тарантьев - «человек ума бойкого и хитрого; никто лучше его не рассудит какого-нибудь общего житейского вопроса или юридического запутанного дела: он сейчас построит теорию действий в том или другом случае и очень тонко подведет доказательства, а в заключение еще почти всегда нагрубит тому, кто с ним о чем-нибудь посоветуется. Между тем сам, как двадцать пять лет назад определился в какую-то канцелярию писцом, так в этой должности и дожил до седых волос. Ни ему самому и никому другому и в голову на приходило, чтобы он пошел выше. Дело в том, что Тарантьев был мастер только говорить...»
Двое последних гостей ходили к Обломову «пить, есть, курить хорошие сигары». Однако из всех своих знакомых Обломов больше всего ценил Андрея Ивановича Штольца. Обломов сетует, что Штольц сейчас в отъезде, иначе он бы все его «беды» очень быстро рассудил.
Тарантьев ругает Обломова, что он «дрянь курит», что у него нет к приходу гостей мадеры, что он все лежит. Взяв у Обломова денег якобы для покупки мадеры, тотчас про это забывает. На жалобы Обломова-о старосте говорит, что староста мошенник, чтобы Обломов поезжал в деревню и сам навел порядок. На известие о том, что Обломову нужно съезжать с квартиры, предлагает переехать к своей куме, тогда «я каждый день буду к тебе заглядывать». О Штольце Тарантьев отзывается злобно, ругает «немцем проклятым», «шельмой продувной». «Вдруг из отцозсклх сорока сделал тысяч триста капиталу, и в службе за надворного перевалился, и ученый... теперь вон еще путешествует!.. Разве настоящий-то русский человек станет все это делать? Русский человек выберет что-нибудь одно, да и то еще нб спеша, потихоньку да полегоньку, кое-как, а то на-ко, поди!».
Гости уходят, Обломов погружается в задумчивость.
Обломов безвыездно живет двенадцатый год в Петербурге. Раньше он был «еще молод, и если нельзя сказать, чтоб он был жив, то, по крайней мере, живее, чем теперь; еще он был полон разных стремлений, все чего-то надеялся, ждал многого и от судьбы, и от самого себя; все готовился к поприщу, к роли - прежде всего, разумеется, в службе, что и было целью его приезда в Петербург. Потом он думал и о роли в обществе; наконец, в отдаленной перспективе, на повороте юности к зрелым летам, воображению его мелькало и улыбалось семейное счастье. Но дни пил за днями... а он ни на шаг не продвинулся ни на каком поприще и все еще стоял у порога своей арены, там же, где был десять лет назад. Но он все сбирался и все готовился начать жизнь, все рисовал в уме узор своей будущности; яо с каждым мелькавшим над головой его годом должен был что-нибудь изменять и отбрасывать в этом узоре. Жизнь в его глазах разделялась на две половины: одна состояла из труда и скуки - это у него были синонимы; другая - из покоя и мирного веселья... Будущая служба представлялась ему в виде какого-то семейного занятия, вроде, например, ленивого записывания в тетрадку прихода и расхода, как делывал его отец. Он полагал, что чиновники одного места составляли между собою дружную, тесную семью, неусыпно пекущуюся о взаимном спокойствии и удовольствиях, что посещение присутственного места отнюдь не есть обязательная привычка, которой надо придерживаться ежедневно, и что слякоть, жара или просто нерасположение всегда будут служить достаточными и законными предлогами к нехож-дению в должность. Но как огорчился он, когда увидел, что надобно быть, по крайней мере, землетрясению, чтоб не прийти здоровому чиновнику на службу... Все это навело на него страх и скуку великую. «Когда же жить? Когда жить?» - твердил он».
Обломов прослужил кое-как два года, потом отправил депешу вместо Астрахани в Архангельск. Боясь ответственности, Обломов ушел домой и прислал медицинское свидетельство о болезни. Понимая, что рано или поздно придется «выздороветь», подает в отставку.
С женщинами Обломов не общается, так как это влечет за собой хлопоты. Он ограничивается «поклонением издали, на почтительном расстоянии». «Его почти ничто не влекло из дома, и он с каждым днем все крепче и постояннее водворялся в своей квартире. Сначала ему тяжело стало пробыть целый день одетым, потом он ленился обедать в гостях, кроме коротко знакомых, больше холостых домов, где можно снять галстук, расстегнуть жилет и где можно даже «поваляться» или соснуть часок. Вскоре и вечера надоели ему: надо надевать фрак, каждый день бриться... Несмотря на все эти причуды, другу его, Штольцу, удавалось вытаскивать его в люди; но Штольц часто отлучался из Петербурга в Москву, в Нижний, в Крым, а потом и за границу - и без него Обломов опять ввергался весь по уши в свое одиночество и уединение, из которого его могло вывести только что-нибудь необыкновенное». «Он не привык к движению, к жизни, к многолюдству и суете. В тесной толпе ему было душно; в лодку он садился с неверною надеждой добраться благополучно до другого берега, в карете ехал, ожидая, что лошади понесут и разобьют».
Учился Илюша, как и другие, до пятнадцати чет в пансионе. «Он по необходимости сидел в классе прямо, слушал, что говорили учителя, потому что ничего другого делать было нельзя, и с трудом, с потом, со вздохами выучивал задаваемые ему уроки... Серьезное чтение утомляло его». Мыслителей Обломов не воспринимает, только поэтам удалось расшевелить его душу. Книги ему дает Штольц. «Оба волновались, плакали, давали друг другу торжественные обещания идти разумною и светлою дорогою». Но тем не менее, во время чтения «как ни интересно было место, на котором он (Обломов) останавливался, но если на этом месте заставал его час обеда или сна, он клал книгу переплетом вверх и шел обедать или гасил свечу и ложился спать». В результате.голова его представляла сложный архив мертвых дел, лиц, эпох, цифр, религий, ничем не связанных политико-экономических, математических или других истин, задач, положений и т. п. Это была как будто библиотека, состоящая из одних разрозненных томов по разным частям знаний».
«Случается и то, что он исполнится презрения к людскому пороку, ко лжи, к клевете, к разлитому в мире злу и разгорится желанием указать человеку на его язвы, и вдруг загораются в нем мысли, ходят и гуляют в голове, как волны в море, потом вырастают в намерения, зажгут всю кровь в нем... Но, смотришь, промелькнет утро, день уже клонится к вечеру, а с ним клонятся к покою и утомленные силы Обломова».
К Обломову приходит доктор, осматривает и говорит, что от лежанья и жирной пищи его года через два-три хватит удар, советует ехать за границу. Обломов в ужасе. Доктор уходит, Обломов остается думать о своих «несчастьях». Засыпает, ему снится сон, в котором перед ним проходят все этапы его жизненного пути.
Вначале Илье Ильичу снится пора, когда ему всего семь лет. Он просыпается в своей постельке. Няня одевает его, ведет к чаю. Весь «штат и свита» дома Обломовых тут же подхватывают его, начинают осыпать ласками и похвалами. После этого начиналось кормление его булочками, сухариками и сливочками. Потом мать, приласкав его еще, «отпускала гулять в сад, по двору, на луг, с строгим подтверждением няньке не оставлять ребенка одного, не допускать к лошадям, к собакам, к козлу, не уходить далеко от дома, а главное, не пускать его в овраг, как самое страшное место в околотке, пользовавшееся дурною репутацией». День в Обломовке проходит бессмысленно, в мелочных заботах и разговорах. «Сам Обломов - старик тоже не без занятий. Он целое утро сидит у окна и неукоснительно наблюдает за всем, что делается на дворе... И жена его сильно занята: она часа три толкует с Аверкой, портным, как из мужниной фуфайки перешить Илюше курточку, сама рисует мелом и наблюдает, чтобы Аверка не украл сукна; потом перейдет в девичью, задаст каждой девке, сколько сплести в день кружев; потом позовет с собой Настасью Ивановну, или Степаниду Агаповну, или другую из своей свиты погулять по саду с практической целью: посмотреть, как наливается яблоко, не упало ли вчерашнее, которое уж созрело... Но главною заботою была кухня и обед. Об обеде совещались целым домом». После обеда все спят. Кучер спит ка конюшне, садовник - под кустом в саду, кое-кто из свиты - на сеновале и т. д.
Следующая пора, которая снится Обломову, - он немного старше, и няня рассказывает ему сказки. «Взрослый Илья Ильич хотя после и узнает, что нет медовых и молочных рек, нет добрых волшебниц, хотя и шутит он с улыбкой над сказаниями няни, но улыбка эта неискренняя, она сопровождается тайным вздохом: сказка у него смешалась с жизнью, и он бессильно грустит подчас, зачем сказка не жизнь, а жизнь не сказка... Его все тянет в ту сторону, где только и знают, что гуляют, где нет забот и печалей; у него навсегда остается расположение полежать на печи, походить в готовом, незаработанном платье и поесть на счет доброй волшебницы».
Жизнь в Обломовке вялая, крайне консервативная. Илюшу лелеют, «как экзотический цветок в теплице». «Ищущие проявления силы обращались внутрь и никли, увядая». Родители «мечтали о шитом мундире для него, воображали его советником в палате, а мать даже и губернатором; но всего этого хотелось бы им достигнуть как-нибудь подешевле, с разными хитростями обойти тайком разбросанные по пути просвещения и честей камни и преграды, не трудясь перескакивать через них, то есть, например, учиться слегка, не до изнурения души и тела, не до утраты благословенной, в детстве приобретенной полноты, а так, чтоб только соблюсти предписанную форму и добыть как-нибудь аттестат, в котором бы сказано было, что Илюша прошел все науки и искусства».
Захар будит Обломова. Приехал Штольц.