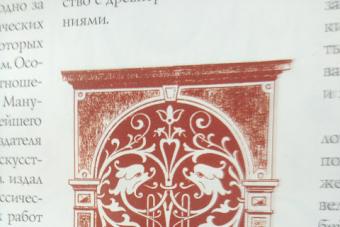«Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу........ Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? ...... Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?.. ..... у! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!..»
Н.В. Гоголь
Русь! Русь! Вижу тебя…
«Р усь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу: бедно, разбросанно и неприютно в тебе; не развеселят, не испугают взоров дерзкие дива природы, венчанные дерзкими дивами искусства, города с многооконными высокими дворцами, вросшими в утесы, картинные дерева и плющи, вросшие в домы, в шуме и в вечной пыли водопадов; не опрокинется назад голова посмотреть на громоздящиеся без конца над нею и в вышине каменные глыбы; не блеснут сквозь наброшенные одна на другую темные арки, опутанные виноградными сучьями, плющами и несметными миллионами диких роз, не блеснут сквозь них вдали вечные линии сияющих гор, несущихся в серебряные ясные небеса. Открыто-пустынно и ровно все в тебе; как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают, и стремятся в душу, и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?.. И еще, полный недоумения, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онемела мысль пред твоим пространством. Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразясь во глубине моей; неестественной властью осветились мои очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!..»
(«Мертвые души», глава 11)
Бричка между тем поворотила в более пустынные улицы; скоро потянулись одни длинные деревянные заборы, предвещавшие конец города. Вот уже и мостовая кончилась, и шлагбаум, и город назади, и ничего нет, и опять в дороге. И опять по обеим сторонам столбового пути пошли вновь писать версты, станционные смотрители, колодцы, обозы, серые деревни с самоварами, бабами и бойким бородатым хозяином, бегущим из постоялого двора с овсом в руке, пешеход в протертых лаптях, плетущийся за восемьсот верст, городишки, выстроенные живьем, с деревянными лавчонками, мучными бочками, лаптями, калачами и прочей мелюзгой, рябые шлагбаумы, чинимые мосты, поля неоглядные и по ту сторону и по другую, помещичьи рыдваны, солдат верхом на лошади, везущий зеленый ящик с свинцовым горохом и подписью: такой-то артиллерийской батареи, зеленые, желтые и свежеразрытые черные полосы, мелькающие по степям, затянутая вдали песня, сосновые верхушки в тумане, пропадающий далече колокольный звон, вороны как мухи и горизонт без конца... Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу : бедно, разбросанно и неприютно в тебе; не развеселят, не испугают взоров дерзкие дива природы, венчанные дерзкими дивами искусства, города с многооконными высокими дворцами, вросшими в утесы, картинные дерева и плющи, вросшие в домы, в шуме и в вечной пыли водопадов; не опрокинется назад голова посмотреть на громоздящиеся без конца над нею и в вышине каменные глыбы; не блеснут сквозь наброшенные одна на другую темные арки, опутанные виноградными сучьями, плющами и несметными миллионами диких роз, не блеснут сквозь них вдали вечные линии сияющих гор, несущихся в серебряные ясные небеса. Открыто-пустынно и ровно все в тебе; как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают, и стремятся в душу, и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?.. И еще, полный недоумения, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онемела мысль пред твоим пространством. Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразясь во глубине моей; неестественной властью осветились мои очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!..
«Чудное, прекрасное далеко»
«
Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу».
Но где же то «чудное, прекрасное далеко», из которого виделась Гоголю «бедная и неприютная» Русь?
Где оно? В какой части света?
Или может быть это «чудное, прекрасное далеко» всего лишь время, по необходимости поэтическое? Вневременной «золотой век», в коем несть ни печали, ни воздыхания?
И видится отчего-то Италия, в которой писаны «Мертвые души». Однако вчитаемся и посмотрим, верно ли наше первое приходящее в голову суждение?
Где эти «дерзкие дива природы, венчанные дерзкими дивами искусства, города с многооконными высокими дворцами, вросшими в утесы, картинные дерева и плющи, вросшие в домы, в шуме и в вечной пыли водопадов»?
Где опрокидывается назад голова «посмотреть на громоздящиеся без конца над нею и в вышине каменные глыбы»?
Где блестят «сквозь наброшенные одна на другую темные арки, опутанные виноградными сучьями, плющами и несметными миллионами диких роз»?
Где блестят сквозь них вдали «вечные линии сияющих гор, несущихся в серебряные ясные небеса»?
Да. Это - Европа: Германия, Швейцария и возлюбленная Гоголем Италия, в которой так легко и вольно писалась поэма в прозе. И показалось ему при первой же встрече с Италией, будто увидел он свою родину. «Родину души своей я увидел, где душа моя жила ещё прежде меня, прежде чем я родился на свет».
«О России я могу писать только в Риме. Только там она предстоит мне вся, во всей своей громаде».
А что же Русь?
Все « бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни...»
«Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!»
«Открыто-пустынно и ровно все в тебе; как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают, и стремятся в душу, и вьются около моего сердца?»
«Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь небесный
Исходил, благословляя».
Но несется Русь, охваченная страшным движением, неведомым миру мистическим потоком.
«Куда несешься ты?»
Но уж точно не по дороге «общественного прогресса».
«И косясь, постораниваются и дают русской птице-тройке дорогу другие народы и государства».
Напуганы русской бесшабашной удалью, именуемой «непредсказуемостью»? «Угрозой европам»?
«Чур меня! Чур!»
Нет, право, без гоголевской «метафизики России» с мистикой ее бытия нам не обойтись.
«... какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают, и стремятся в душу, и вьются около моего сердца?»
«Непостижимая, тайная сила».
Нечто сверх-рациональное, чему нет слов в человечьем языке, а вольное или невольное вторжении в духовные пределы России, становится беспощадным экзаменом на подлинность.
И какое дело той волшебной и потайной силе, что властвует над Россией, до «технического прогресса» или «успехов бытоустроения»?
Чуждость России миру - вот, что пугает ее «партнеров».
«Экзистенциальная» чуждость, как сказали бы философы.
«Беззаконная
комета в кругу расчисленном светил».
Исключительно милостию Божией существующая. И объяснить немыслимое ее существование ничем иным невозможно. Русский немец Миних понимал это лучше многих природных русаков и нерусских немцев:
«Русское государство имеет то преимущество перед другими, что оно управляется непосредственно Самим Господом Богом. Иначе невозможно объяснить, как оно существует…»
«Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь небесный
Исходил, благословляя».
Не сподобились объяснить существование Русской земли и сами русские, не раз задумывавшие «
обнять всю Россию со всех точек — с гражданской, политической, религиозной, философической, разрешить затруднительные задачи и вопросы, заданные ей временем, и определить ясно ее великую будущность, словом — всё так и в том виде, как любит задавать себе современный человек».
А когда принимались за дело всерьез, то ничего, кроме введения не выходило, а если и выходило нечто, то сплошь обрывки.
И, быть может, правильно делали ученые люди, что бросали свое занятие, чуя нутром бесплодность своих попыток.
«М удрость мира сего есть безумие перед Богом».
Оттого и не удавалась никакая русская философия, ибо сказано : «Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну» .
Зато родилась Литература, и понеслась по свету тройка: «Пушкин - Гоголь - Достоевский».
И ахнул мир. И вновь насторожился, потому что почуял, что погружается в некий мистический мир, лишь внешне напоминающий привычный, в котором не действуют привычные законы, кажущиеся незыблемыми.
«Небесные силы! какая ночь совершается в вышине! А воздух, а небо, далекое, высокое, там, в недоступной глубине своей, так необъятно, звучно и ясно раскинувшееся!..»
«Но и друг наш Чичиков чувствовал в это время не вовсе прозаические грезы». Умеют чувствовать даже русские подлецы, живую душу в себе убивающие.
«... и уже опять перед тобою поля и степи, нигде ничего — везде пустырь, все открыто. Верста с цифрой летит тебе в очи; занимается утро; на побелевшем холодном небосклоне золотая бледная полоса; свежее и жестче становится ветер: покрепче в теплую шинель!.. какой славный холод!»
«Подымутся русские движения... и увидят, как глубоко заронилось в славянскую природу то, что скользнуло только по природе других народов...»
«Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа».
Не вместить его в себя человечьему уму.
Odi et amo. G.V. Catullus
(Ненавижу и люблю. Г. В. Катулл)
«Мёртвые души», с одной стороны, эпическое произведение, а с другой — лирическое, благодаря множеству авторских отступлений. Называя «Мёртвые души» поэмой, Гоголь подчёркивал содержательную значимость этих отступлений: во-первых, они создают образ автора, человека вдумчивого, наблюдательного, гуманного, остроумного, не очень счастливого, но твёрдого в своих нравственных и общественных убеждениях; во-вторых, именно авторские отступления помогли Гоголю выразить в первом томе свою оптимистическую веру в будущее России.
К первой относятся биографические воспоминания и рассуждения автора. В начале шестой главы помещено воспоминание о счастливом детском восприятии жизни: ребёнок, едучи в дорожной коляске, не замечал грязи и убожества вокруг себя, ему всё было интересно, всё ново. Увидев помещичий дом, он начинал фантазировать о хозяине и его семье, детское внимание привлекал и купол церкви, и необычный сюртук на прохожем, и товары в придорожной лавке. Но теперь автор, взрослый человек, безучастно подъезжает к незнакомому месту, равнодушно смотрит на пошлую картину и с грустью восклицает: «О моя юность! О моя свежесть!».
Возвышенно лирично звучит авторское отступление из одиннадцатой главы: «Русь! Русь! Вижу тебя, из моего чудного прекрасного далека тебя вижу». Родина видится автору бедной, неприютной, плоской равниной, без величественных гор, водопадов, зарослей диких роз и тёплого моря. Но, живя далеко от родины, в Италии, автор продолжает оставаться русским, его тревожит и хватает за сердце русская песня, он постоянно думает о судьбе своей страны: «Но какая же непостижимо тайная сила влечёт к тебе? Почему слышится и раздаётся немолчно в ушах твоя тоскливая (...) песня? Что в ней, в этой песне? Что зовёт, и рыдает, и хватает за сердце? Русь! Чего ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами?». В другом отступлении содержится признание в том, что автор любит дорогу: она отвлекает от горьких дум, успокаивает и одновременно бодрит: «Боже, как ты хороша подчас, далёкая, далёкая дорога! Сколько раз, как погибающий и тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий раз великодушно выносила и спасала! А сколько родилось в тебе чудных замыслов, поэтических грёз, сколько перечувствовалось в тебе дивных впечатлений!». В главе о Плюшкине сталкиваемся с авторским возмущением по поводу духовного падения человека: «И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек! Мог так измениться! (...) Забирайте же с собой в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собой все человеческие движения, не оставляйте их на дороге. Не подымете потом!» (гл.6).
Известно, что Гоголь несколько лет преподавал историю в Петербургском университете, поэтому к биографическим можно отнести рассуждение о заблуждениях человечества, с которыми автор сравнивает непоследовательное поведение губернских чиновников: «Какие искривлённые, глухие, узкие, непроходимые, заносящие далеко в сторону дороги избирало человечество, стремясь достигнуть вечной истины, тогда как перед ним весь был открыт прямой путь» (гл.10). Потомки смеются над прошлыми ошибками предков, но сами поступают так же неразумно, как их праотцы.
Эти лирические отступления чередуются с юмористическими признаниями автора, например, в зависти к удивительному аппетиту «господина средней руки»: «Автор должен признаться, что весьма завидует аппетиту и желудку такого рода людей. Для него решительно ничего не значат все господа большой руки, живущие в Петербурге и Москве, проводящие время в обдумывании, что бы такое поесть завтра. (...) Нет, эти господа никогда не возбуждали в нём зависти» (гл.4).
Ко второй группе принадлежат авторские отступления о литературном труде. Это прежде всего сравнение романтического и сатирического писателей в начале седьмой главы: «Счастлив писатель, который мимо характеров скучных, противных (...) приближается к характерам, являющим высокое достоинство человека, который из великого омута ежедневно вращающихся образов избрал одни немногие исключения. (...) Он окурил упоительным куревом людские очи, он чудно польстил им, сокрыв печальное в жизни, показав им прекрасного человека». Такому писателю все рукоплещут, его объявляют гением, его искренне любит публика. «Но не таков удел и другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу всё, что ежеминутно перед очами и чего не зрят равнодушные очи, — всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров». Этого писателя не признают, откажут ему в добром сердце, и в чувствительной душе, и даже в таланте, его произведение назовут «кривлянием балаганного скомороха». Сурово его поприще, и горько почувствует он своё одиночество. Несмотря на всю моральную тяжесть такой жизни, безденежье, автор выбирает именно трудный путь сатирика: «И долго ещё мне определено чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать жизнь сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слёзы». В одиннадцатой главе, как бы продолжая рассуждения о сатирическом писателе, автор объясняет, что сознательно не взял в герои поэмы «добродетельного человека»: «Потому что пора наконец дать отдых бедному добродетельному человеку (...), потому что обратили в лошадь добродетельного человека, и нет писателя, который бы не ездил на нём, понукая и кнутом и всем чем ни попало. (...) Нет, пора наконец припрячь подлеца». Автор объясняет своё отношение к образу Чичикова: «Что он не герой, исполненный совершенств и добродетелей, это видно. Как же он? Стало быть, подлец? Почему же подлец, зачем же быть так строгу к другим? (...) Справедливее всего назвать его: хозяин, приобретатель».
Замечательно рассуждение автора из восьмой главы о блюстителях чистоты русского языка, которые решительно требуют литературу, написанную самым строгим, очищенным (без уличных грубостей), благородным языком. Но сами эти блюстители употребляют и французский, и немецкий, и английский, и от них первых не услышишь ни одного порядочного русского слова. Автор оставляет за собой свободу употреблять русский язык так, как считает нужным, хотя это может не понравиться строгим читателям из высшего общества.
В третью группу входят авторские отступления о России и о русском характере. Несмотря на грустные картины помещичьего быта и чиновничьей суеты в губернском городе, несмотря на подлеца главного героя, в «Мёртвых душах» выражается не безысходное отчаяние, но горячая вера в будущее России. Этот смысловой эффект в первом томе достигается благодаря авторским отступлениям.
В России, одновременно иронично и серьёзно замечает автора если не угнались ещё в чём другом за Европой, то далеко обогнали её в умении общаться: «Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения. У нас с помещиком, который имеет двести душ, будут говорить не так, как с владельцем трёхсот душ, и уж совсем по-другому с тем, у кого пятьсот душ. (...) Словом, восходи до миллиона, а всё найдутся оттенки» (гл.3). Для автора очевидно, что русская нация обладает языком, который есть часть русского характера и свидетельствует о глубоком уме, наблюдательности народа. Немецкий, английский, французский языки хороши по-своему, «но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово» (гл.5). Русский народ выражается сильно, «и если наградит кого словцом, то пойдёт оно ему в род и потомство, утащит он его с собой и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света» (гл.5).
За страшным миром помещичьей России автор чувствует живую душу народа. В поэме с воодушевлением говорится о народной удали, смелости, мастерстве, о любви к вольной жизни. Об этом думает Чичиков, читая список купленных крестьян (гл. 11): плотник Степан Пробка с топором исходил всю губернию, чудо-сапожник Максим Телятников был гордостью немца-учителя, извозчик Григорий Доезжай-не-доедешь побывал с купцами на всех ярмарках, Абакум Фыров предпочёл каторжный труд бурлака рабской жизни у Плюшкина.
Самым значительным авторским размышлением о России стала, конечно, картина птицы-тройки, завершающая первый том поэмы: в ней автор запечатлел стремительное движение Руси, которую сравнивает с тройкой: «Дымом дымится (...) дорога, гремят мосты, всё отстаёт и остаётся позади» (гл. 11). Писатель выразил свою надежду, что Россия ещё поднимется к величию и славе: «Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо всё, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства» (там же).
Итак, авторские отступления чрезвычайно важны для идейного содержания поэмы. Они создают смысловой подтекст, без которого поэма не существует как цельное произведение. Строго говоря, вся поэма проникнута лиризмом (авторским отношением), что В.Г.Белинский считал большим её достоинством. Гоголь писал своё произведение не как спокойный созерцатель, но как патриот России, твёрдо верящий в её великое будущее и поэтому страстно ненавидящий всё то, что мешало её развитию (движению к истине). Уже в самой беспощадной сатире на дворянско-крепостническое общество проявилось критическое авторское отношение к героям и событиям, но Гоголю такого, можно сказать опосредованного, проявления авторской позиции показалось недостаточно, и он вводит в поэму авторские отступления, прямо раскрывающие его мысли и чувства. Тот же художественный приём — лирические отступления — имеет место в романе А.С.Пушкина «Евгений Онегин».
Гоголь показал глубокий духовный кризис русского государства, но при этом он чувствовал, что за мёртвыми душами хозяев жизни «сквозит» живая душа народа. «Мёртвые души», отмечал А.И.Герцен, «удивительная книга, горький упрёк современной России, но небезнадёжный». Вера в будущее рождается как раз из авторских лирических раздумий. Из размышлений о русском слове, о свободолюбии и талантливости русских людей, о судьбе России создаётся второй облик родины, облик живой страны, сохранившей душу даже под властью мертводушных маниловых, собакевичей и т.п. Размышляя о собственной жизни и о своём писательском предназначении, автор в лирических отступлениях сам демонстрирует характер российского человека, не сгибаемый ни при каких обстоятельствах.
И.А. Есаулов
РЕЦЕПЦИЯ ГОГОЛЯ И ВЕКТОР РАЗВИТИЯ РОССИИ
В последней главе первого тома «Мертвых душ» возникает известное обращение автора к Руси
: «Русь! Русь! Вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу: бедно, разбросанно и неприютно в тебе; не развеселят, не испугают взоров дерзкие дива природы, венчанные дерзкими дивами искусства <…> Открыто-пустынно и ровно всё в тебе; как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря и до моря, песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают и стремятся в душу и вьются около моего сердца? Русь! Чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и чем всё, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?.. И еще, полный недоумения, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онемела мысль перед твоим пространством. Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразясь во глубине моей; неестественной властью осветились мои очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!..»
Не хотелось перебирать различные интерпретации этих строк, этого несколько вызывающего и, во всяком случае, совершенно особенного чувства сопричастности автора и предмета его описания. Зададимся лишь вопросом о той сущности, которую Гоголь называет словом Русь
? Что это?
Чем это описание отличается от финального, когда вновь появляется подобное обращение: «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несёшься? <...> Русь, куда ж несешься ты? дай ответ». В свое время, пятнадцать лет назад, я уже рассматривал вектор движения Руси
, согласно художественному замыслу Гоголя .
Как представляется, пространственная горизонталь тела России («ровнем-гладнем разметнулась на полсвета»), преодолевая апостасию - в символе Руси-тройки, должна преобразиться в соборную духовную вертикаль. Именно это преображение и изображается в финале «Мертвых душ». Именно оно и является тем «Божиим чудом», о котором говорится в этом финале. Но это «чудо» имеет отчетливый пасхальный смысл и опирается на православную духовную традицию, согласно которой Русь, «вся вдохновенная Богом», оттого и является необходимым для мира «удерживающим», что вектор ее «пути» как Божий замысел о России («дают ей дорогу другие народы и государства») - это идеал святости (святая Русь
).
Согласно этой логике, в финале «Мертвых душ» происходит пасхальное чудо воскресения «мертвого душою» центрального персонажа гоголевской поэмы. Его нельзя «позитивистски» объяснить
, ибо остается непроясеннность тайны, но можно понять
, однако такое понимание непременно сопряжено с верой
в чудо воскресения. Финальное вознесение Чичикова возможно точно так же, как и воскресение русского народа: ведь пасхальность России в «Выбранных местах...» соседствует с убеждением, что «никого мы (русские. - И.Е.
) не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех... “Хуже мы всех прочих” - вот что мы должны всегда говорить о себе». Но осознание греховности в итоге приводит к ее преодолению, когда оказывается возможным «сбросить с себя все недостатки наши, всё позорящее высокую природу человека», когда - во время пасхального торжества - «вся Россия - один человек». Именно поэтому я и делал вывод, что структура «Мертвых душ» и структура «Выбранных мест из переписки с друзьями» имеет пасхальную основу, которая определяет и их поэтику. В этом же ключе понимается мною и финал «Ревизора», когда - подлинный Ревизор - должен явиться в душе зрителей уже после
того, как занавес опустился. Явление этого Ревизора призвано способствовать духовному воскресению зрителей гоголевской пьесы - после их «окаменения» вместе с героями произведения.
В этой же работе хотелось бы поставить другой вопрос. Хотим мы или не хотим, подобная позиция, которую я тезисно обозначил выше, предполагает совершенно определенный вектор движения и России-Руси в целом: от смерти - к воскресению. [
69]
Поэтому необходимо разобраться в этом парадоксе. Где та Русь
, которую подразумевал Гоголь? Ясно, что в данном случае невозможно говорить о чисто духовной сущности. Ведь речь в «Мертвых душах», помимо прочего, идет и об особом пространстве
: «от моря и до моря», о положении
автора по отношению к этому пространству - «вижу тебя из моего чудного, прекрасного далека». Можно было бы указать и на другие подобные же маркеры, не позволяющие некорректно сублимировать эту Русь
, но ограничимся и этими.
Одновременно нельзя свести эту Русь
лишь к так называемой «гоголевской России», тем более, к «николаевской России». Нет, это просто Россия, Россия как таковая, как Русь
. Но, в то же время, именно Россия, а не что-либо другое, вместо России.
Где же она, эта Россия как таковая? В каком отношении, например, она относится к нынешней Российской Федерации? Мы обязаны ставить такие вопросы, хотя бы исходя из самой элементарной герменевтической установки. Мы не можем поместить себя - даже если бы весьма желали этого - в пространство гоголевской
России. Мы вынуждены исходить в нашем понимании, в нашей рецепции, из той незаместимой позиции в мире, которая дана нам в нашем собственном бытии, здесь и сейчас, в нашем здесьбытии, говоря по-хайдеггеровски.
Так вот, при подобной установке придется признать, что нынешняя Российская Федерация не является, так сказать, вполне
Россией. Ни юридически. Ни фактически. Нынешняя Российская Федерация имела возможность исторического самоопределения. Как имели возможность подобного самоопределения страны Восточной Европы. Российская Федерация выбрала при этом советскую
линию преемства. Не будем сейчас это оценивать. Однако в таком случае на русское
культурное наследие в равной
степени, помимо Российской Федерации, могут претендовать, во всяком случае, Украина и Белоруссия. Фактически, Российская Федерация на сегодняшний день является не только юридическим преемником Советского Союза, но и самой большой территориально его частью. Однако по отношению к исторической
России Российская Федерация является только лишь самой большой из ее частей.
Насколько важно подобное самоопределение можно продемонстрировать хотя бы на следующем примере: последняя война, которую вела императорская Россия, была Первая мировая. Во всех европейских странах, кроме бывшего Советского Союза, а теперь Российской Федерации, в равной степени
чтится память и
Первой мировой и
Второй мировой. И лишь только у нас, в Российской Федерации, одна война так резко возносится над другой. Поневоле выходит какая-то логическая нелепость: одна война, именно та, которую вела Россия, - для нас как будто «чужая», а та война, которую вёл Советский Союз, а не Россия, - для нас как будто вполне «своя».
В общественном сознании совершенно определенно иерархия именно такова. Возможно, потому, что имеется какой-то смутное чувство предательства по отношению к исторической России, ведь, в сущности, воспользовавшись этой войной, была именно убита Россия. В разгар Первой мировой войны была развязана – против собственного народа – война Гражданская. Тем самым люди, Эти люди, развязавшие Гражданскую войну, ради своей собственной власти лишили победы Россию, исключив ее своей злой волей из числа стран-победительниц. Нетрудно догадаться, как к подобному предательству отнеслись бы Пушкин, Гоголь, Достоевский, живи они в ХХ веке.
Ясно, что та Русь
, о которой писал Гоголь, - это не атеистический Советский Союз, сокрушавший саму христианскую грибницу России и, как уже подчеркивалось, вовсе не Российская Федерация, которая совершенно спокойно себя чувствует, скажем, без Украины (Малороссии) и Белоруссии. Но где же тогда находится, если можно так сказать, сама
Россия? Не «николаевская Россия», не Российская Федерация как часть, хотя и самая большая часть, Советского Союза, а Россия? Именно Россия?
Ее в настоящий момент не существует на земле. Она умерла. Или убита. В данном случае важнее осознать факт, нежели искать причину. И, по-видимому, стоит признать эту очевидность. Всякий иной ответ на этот вопрос отсылает к чему-то другому, но не к России, не к ее сущности.
Однако этот ответ еще не должен, как представляется, ввергать нас в совершенное уныние. Это лишь честный ответ на корректно сформулированный вопрос. Но следует помнить и то, что Воскресения без Смерти, увы, не бывает.
В сущности, как представляется, известные розановские инвективы в адрес Гоголя не были поставлены еще в правильный контекст понимания. Да, мы можем сказать, что всеми своими главными произведениями Гоголь словно бы предугадал Гибель той реальности, которую мы и называем Россией. Не приблизил своими произведениями эту Смерть, как полагал Розанов, но угадал ее приближение.
Однако, как уже было сформулировано выше, одновременно с этим присутствует и пасхальное воскресение России. Этот вектор движения также задан самой структурой гоголевских текстов.
Если, не слишком цепляясь за советское наследство, мы признаем эту Гибель России всерьез, а не только как художественную метафору, мы только и можем получить шанс на ее воскресение.
Мы сегодня живем совсем не в России, которая так очаровывает нас в гоголевских произведениях, да и вообще в русской классической литературе, а в Российской Федерации, осколке Советского Союза. Нужно отдавать себе в этом трезвый отчет. Однако этот осколок может двигаться по самым причудливым духовным и геополитическим траекториям. Мне представляется, что всем, кто считает себя частью русской культуры, вне зависимости от национальности, конфессиональных и прочих предпочтений, вне зависимости от того, является ли человек, так сказать, «западником» или «славянофилом» (не нужно, надеюсь, после вышеизложенного объяснять, почему эти слова поставлены мною в кавыки), следует задать поддержать совершенно определенный вектор движения: от РФ-ии – к России
.
Одновременно это еще и рецептивная задача нас - как читателей Гоголя. Мы, как читатели, также должны трезво осознать и мужественно принять, увы, и другое: то, что мы - вместе с Россией - уже
являемся «мертвыми душами». Хотя бы потому осознать, что без подобного осознания мы не сможем испытать последующей пасхальной радости.
Десятые Гоголевские Чтения: Н.В. Гоголь и его творческое наследие. Юбилейный выпуск. М., 2010. С. 68-72.
См.: Есаулов И.А. Тернарная структура «Мертвых душ» и православная традиция (Проблема преодоления апостасии) // Микола Гоголь i свiтова культура: Матерiали мiжнародно? науково? конференцi?, присвячено? 185-рiччю з дня народження письменника). Киев-Нiжин, 1994. С. 86-87.