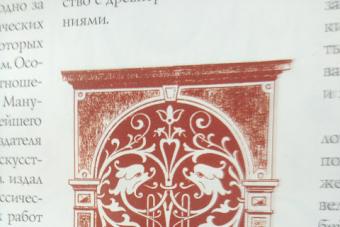Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фильдекосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место.
А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней, и в театр водил. В театре-то все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме.
А встретился я с ней во дворе дома. На собрании. Гляжу, стоит этакая фря. Чулочки на ней, зуб золоченый.
— Откуда, — говорю, — ты, гражданка? Из какого номера?
— Я, — говорит, — из седьмого.
— Пожалуйста, — говорю, — живите.
И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней. В седьмой номер. Бывало, приду, как лицо официальное. Дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода и уборной? Действует?
— Да, — отвечает, — действует.
И сама кутается в байковый платок, и ни мур-мур больше. Только глазами стрижет. И зуб во рте блестит. Походил я к ней месяц — привыкла. Стала подробней отвечать. Дескать, действует водопровод, спасибо вам, Григорий Иванович.
Ну а раз она мне и говорит:
— Что вы, говорит, меня все по улицам водите? Аж голова закрутилась. Вы бы, говорит, как кавалер и у власти, сводили бы меня, например, в театр.
— Можно, — говорю.
И как раз на другой день прислала комячейка билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька-слесарь пожертвовал.
На билеты я не посмотрел, а они разные. Который мой — внизу сидеть, а который Васькин — аж на самой галерейке.
Вот мы и пошли. Сели в театр. Она села на мой билет, я на Васькин. Сижу на верхотурьи и ни хрена не вижу. А ежели нагнуться через барьер, то ее вижу. Хотя плохо.
Поскучал я, поскучал, вниз сошел. Гляжу — антракт. А она в антракте ходит.
— Здравствуйте, — говорю.
— Здравствуйте.
— Интересно, — говорю, — действует ли тут водопровод?
— Не знаю, — говорит.
И сама в буфет прет. Я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюдо. На блюде пирожные.
А я этаким гусем, этаким буржуем нерезанным вьюсь вокруг нее и предлагаю:
— Ежели, — говорю, — вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь. Я заплачу.
— Мерси, — говорит.
И вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом и жрет.
А денег у меня — кот наплакал. Самое большое что на три пирожных. Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю, смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег — с гулькин нос.
Съела она с кремом, цоп другое. Я аж крякнул. И молчу. Взяла меня этакая буржуйская стыдливость. Дескать, кавалер, а не при деньгах.
Я хожу вокруг нее, что петух, а она хохочет и на комплименты напрашивается.
Я говорю:
— Не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть.
А она говорит:
И берет третье. Я говорю:
— Натощак — не много ли? Может вытошнить.
— Нет, — говорит, — мы привыкшие.
И берет четвертое. Тут ударила мне кровь в голову.
— Ложи, — говорю, — взад!
А она испужалась. Открыла рот. А во рте зуб блестит. А мне будто попала вожжа под хвост. Все равно, думаю, теперь с ней не гулять.
— Ложи, — говорю, — к чертовой матери!
Положила она назад. А я говорю хозяину:
— Сколько с нас за скушанные три пирожные?
А хозяин держится индифферентно — ваньку валяет.
— С вас, — говорит, — за скушанные четыре штуки столько-то.
— Как, — говорю, — за четыре? Когда четвертое в блюде находится.
— Нету, — отвечает, — хотя оно и в блюде находится, но надкус на ем сделан и пальцем смято.
— Как, — говорю, — надкус, помилуйте. Это ваши смешные фантазии.
А хозяин держится индифферентно — перед рожей руками крутит.
Ну, народ, конечно, собрался. Эксперты. Одни говорят — надкус сделан, другие — нету.
А я вывернул карманы — всякое, конечно, барахло на пол вывалилось — народ хохочет. А мне не смешно. Я деньги считаю.
Сосчитал деньги — в обрез за четыре штуки. Зря, мать честная, спорил.
Заплатил. Обращаюсь к даме:
— Докушивайте, — говорю, — гражданка. Заплачено.
А дама не двигается. И конфузится докушивать.
А тут какой-то дядя ввязался.
— Давай, — говорит, — я докушаю.
И докушал, сволочь. За мои деньги.
Сели мы в театр. Досмотрели оперу. И домой. А у дома она мне и говорит:
— Довольно свинство с вашей стороны. Которые без денег — не ездют с дамами.
А я говорю:
— Не в деньгах, гражданка, счастье. Извините за выражение.
Так мы с ней и разошлись. Не нравятся мне аристократки.
Григорий Иванович шумно вздохнул, вытер подбородок рукавом и начал рассказывать:
– Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фильдекосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место.
А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней и в театр водил. В театре-то все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме.
А встретился я с ней во дворе дома. На собрании. Гляжу, стоит этакая фря. Чулочки на ней, зуб золоченый.
– Откуда, – говорю, – ты, гражданка? Из какого номера?
– Я, – говорит, – из седьмого.
– Пожалуйста, – говорю, – живите.
И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней. В седьмой номер. Бывало, приду, как лицо официальное. Дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода и уборной? Действует?
– Да, – отвечает, – действует.
И сама кутается в байковый платок, и ни мур-мур больше. Только глазами стрижет. И зуб во рте блестит. Походил я к ней месяц – привыкла. Стала подробней отвечать. Дескать, действует водопровод, спасибо вам, Григорий Иванович.
Ну, а раз она мне и говорит:
– Что вы, говорит, меня все по улицам водите? Аж голова закрутилась. Вы бы, говорит, как кавалер и у власти, сводили бы меня, например, в театр.
– Можно, – говорю.
И как раз на другой день прислала комячейка билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька-слесарь пожертвовал.
На билеты я не посмотрел, а они разные. Который мой – внизу сидеть, а который Васькин – аж на самой галерке.
Вот мы и пошли. Сели в театр. Она села на мой билет, я – на Васькин.
Сижу на верхотурье и ни хрена не вижу. А ежели нагнуться через барьер, то ее вижу. Хотя плохо. Поскучал я, поскучал, вниз сошел. Гляжу – антракт. А она в антракте ходит.
– Здравствуйте, – говорю.
– Здравствуйте.
Интересно, – говорю, – действует ли тут водопровод?
– Не знаю, – говорит.
И сама в буфет. Я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюдо. На блюде пирожные.
А я этаким гусем, этаким буржуем нерезаным вьюсь вокруг ее и предлагаю:
– Ежели, говорю, вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь. Я заплачу.
– Мерси, – говорит.
И вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом и жрет.
А денег у меня – кот наплакал. Самое большое, что на три пирожных. Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю, смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег – с гулькин нос.
Съела она с кремом, цоп другое. Я аж крякнул. И молчу. Взяла меня этакая буржуйская стыдливость. Дескать, кавалер, а не при деньгах.
Я хожу вокруг нее, что петух, а она хохочет и на комплименты напрашивается.
Я говорю:
– Не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть.
А она говорит:
И берет третье.
Я говорю:
– Натощак – не много ли? Может вытошнить.
– Нет, – говорит, – мы привыкшие.
И берет четвертое.
Тут ударила мне кровь в голову.
– Ложи, – говорю, – взад!
А она испужалась. Открыла рот, а во рте зуб блестит.
А мне будто попала вожжа под хвост. Все равно, думаю, теперь с пей не гулять.
– Ложи, – говорю, – к чертовой матери!
Положила она назад. А я говорю хозяину:
– Сколько с нас за скушанные три пирожные?
А хозяин держится индифферентно – ваньку валяет.
– С вас, – говорит, – за скушанные четыре штуки столько-то.
– Как, – говорю, – за четыре?! Когда четвертое в блюде находится.
– Нету, – отвечает, – хотя оно и в блюде находится, но надкус на ем сделан и пальцем смято.
– Как, – говорю, – надкус, помилуйте! Это ваши смешные фантазии.
А хозяин держится индифферентно – перед рожей руками крутит.
Ну, народ, конечно, собрался. Эксперты.
Одни говорят – надкус сделан, другие – нету.
А я вывернул карманы – всякое, конечно, барахло на пол вывалилось, народ хохочет. А мне не смешно. Я деньги считаю.
Сосчитал деньги – в обрез за четыре штуки. Зря, мать честная, спорил. Заплатил. Обращаюсь к даме:
– Докушайте, говорю, гражданка. Заплачено.
А дама не двигается. И конфузится докушивать.
А тут какой-то дядя ввязался.
– Давай, – говорит, – я докушаю.
И докушал, сволочь. За мои-то деньги.
Сели мы в театр. Досмотрели оперу. И домой.
А у дома она мне и говорит своим буржуйским тоном:
– Довольно свинство с вашей стороны. Которые без денег – не ездют с дамами.
А я говорю.
– Не в деньгах, гражданка, счастье. Извините за выражение.
Так мы с ней и разошлись.
Не нравятся мне аристократки.
Григорий Иванович шумно вздохнул, вытер подбородок рукавом и начал рассказывать: - Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фильдекосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место.
А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней и в театр водил. В театре-то все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме.
А встретился я с ней во дворе дома. На собрании. Гляжу, стоит этакая фря. Чулочки на ней, зуб золоченый.
Откуда,- говорю,- ты, гражданка? Из какого номера? - Я,- говорит,- из седьмого.
Пожалуйста,- говорю,- живите.
И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней. В седьмой номер. Бывало, приду, как лицо официальное. Дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода и уборной? Действует? - Да,- отвечает,- действует.
И сама кутается в байковый платок, и ни мур-мур больше. Только глазами стрижет. И зуб во рте блестит. Походил я к ней месяц - привыкла. Стала подробней отвечать. Дескать, действует водопровод, спасибо вам, Григорий Иванович.
Ну, а раз она мне и говорит: - Что вы,- говорит,- меня все по улицам водите? Аж голова закрутилась. Вы бы,- говорит,- как кавалер и у власти, сводили бы меня, например, в театр.
Можно,- говорю.
И как раз на другой день прислала комячейка билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька-слесарь пожертвовал.
На билеты я не посмотрел, а они разные. Который мой - внизу сидеть, а который Васькин - аж на самой галерке.
Вот мы и пошли. Сели в театр. Она села на мой билет, я - на Васькин. Сижу на верхотурье и ни хрена не вижу. А ежели нагнуться через барьер, то ее вижу. Хотя плохо. Поскучал я, поскучал, вниз сошел. Гляжу- антракт. А она в антракте ходит.
Здравствуйте,- говорю.
Здравствуйте.
Интересно,- говорю,-действует ли тут водопровод? - Не знаю,- говорит.
И сама в буфет. Я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюдо. На блюде пирожные.
А я этаким гусем, этаким буржуем нерезаным вьюсь вокруг ее и предлагаю: - Ежели,- говорю,- вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь. Я заплачу.
Мерси,- говорит.
И вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом и жрет.
А денег у меня - кот наплакал. Самое большое, что на три пирожных. Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю, смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег - с гулькин нос.
Съела она с кремом, цоп другое. Я аж крякнул. И молчу. Взяла меня этакая буржуйская стыдливость. Дескать, кавалер, а не при деньгах.
Я хожу вокруг нее, что петух, а она хохочет и на комплименты напрашивается.
Я говорю: - Не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть.
А она говорит: - Нет.
И берет третье. Я говорю: - Натощак - не много ли? Может вытошнить. А она: - Нет,- говорит,- мы привыкшие, И берет четвертое.
Тут ударила мне кровь в голову.
Ложи,- говорю,- взад! А она испужалась. Открыла рот, а во рте зуб блестит.
А мне будто попала вожжа под хвост. Все равно, думаю, теперь с ней не гулять.
Ложи,- говорю,- к чертовой матери! Положила она назад. А я говорю хозяину: - Сколько с нас за скушанные три пирожные? А хозяин держится индифферентно - ваньку валяет.
С вас,- говорит,- за скушанные четыре штуки столько-то.
Как,- говорю,- за четыре?! Когда четвертое в блюде находится.
Нету,- отвечает,- хотя оно и в блюде находится, но надкус на ем сделан и пальцем смято.
Как,- говорю,-надкус, помилуйте! Это ваши смешные фантазии, А хозяин держится индифферентно - перед рожей руками крутит.
Ну, народ, конечно, собрался. Эксперты.
Одни говорят - надкус сделан, другие - нету.
А я вывернул карманы - всякое, конечно, барахло на пол вывалилось- народ хохочет. А мне не смешно. Я деньги считаю.
Сосчитал деньги - в обрез за четыре штуки. Зря, мать честная, спорил.
Заплатил. Обращаюсь к даме: - Докушайте,- говорю,- гражданка. Заплачено. А дама не двигается. И конфузится докушивать, А тут какой-то дядя ввязался.
Давай,- говорит,- я докушаю.
И докушал, сволочь. За мои-то деньги. Сели мы в театр. Досмотрели оперу. И домой. А у дома она мне и говорит своим буржуйским тоном: - Довольно свинство с вашей стороны. Которые без денег - не ездют с дамами.
А я говорю: - Не в деньгах, гражданка, счастье. Извините за выражение.
Так мы с ней и разошлись. Не нравятся мне аристократки, 1923 Стакан Тут недавно маляр Иван Антонович Блохин скончался по болезни. А вдова его, средних лет дамочка, Марья Васильевна Блохина, на сороковой день небольшой пикничок устроила.
И меня пригласила.
Приходите,- говорит,- помянуть дорогого покойника чем бог послал. Курей и жареных утей у нас,- говорит,- не будет, а паштетов тоже не предвидится. Но чаю хлебайте, сколько угодно, вволю и даже можете с собой домой брать.
Я говорю: - В чае хотя интерес не большой, но прийти можно. Иван Антонович Блохин довольно, говорю, добродушно ко мне относился и даже бесплатно потолок побелил.
Ну,- говорит,- приходите тем более. В четверг я и пошел.
А народу приперлось множество. Родственники всякие. Деверь тоже, Петр Антонович Блохин. Ядовитый такой мужчина со стоячими кверху усиками. Против арбуза сел. И только у него, знаете, и делов, что арбуз отрезает перочинным ножом и кушает.
А я выкушал один стакашек чаю, и неохота мне больше. Душа, знаете, не принимает. Да и вообще чаишко неважный, надо сказать,- шваброй малость отзывает. И взял я стакашек и отложил к черту в сторону.
Да маленько неаккуратно отложил. Сахарница тут стояла. Об эту сахарницу я прибор и кокнул, об ручку. А стакашек, будь он проклят, возьми и трещину дай.
Я думал, не заметят. Заметили, дьяволы. Вдова отвечает: - Никак, батюшка, стакан тюкнули? Я говорю: - Пустяки, Марья Васильевна Блохина. Еще продержится.
А деверь нажрался арбуза и отвечает: - То есть как это пустяки? Хорошие пустяки. Вдова их в гости приглашает, а они у вдовы предметы тюкают.
А Марья Васильевна осматривает стакан и все больше расстраивается.
Ничего я на это не ответил. Только побледнел ужасно и говорю: - Мне,- говорю,- товарищ деверь, довольно обидно про морду слушать. Я,- говорю,- товарищ деверь, родной матери не позволю морду мне арбузом разбивать. И вообще,- говорю,- чай у вас шваброй пахнет. Тоже,- говорю,- приглашение. Вам,- говорю,- чертям, три стакана и одну кружку разбить-и то мало.
Тут шум, конечно, поднялся, грохот. Деверь наибольше других колбасится. Съеденный арбуз ему, что ли, в голову бросился. И вдова тоже трясется мелко от ярости.
У меня,- говорит,- привычки такой нету - швабры в чай ложить. Может, это вы дома ложите, а после на людей тень наводите. Маляр,- говорит,- Иван Антонович в гробе, наверное, повертывается от этих тяжелых слов... Я,- говорит,- щучий сын, не оставлю вас так после этого.
Ничего я на это не ответил, только говорю: - Тьфу на всех, и на деверя, - говорю, - тьфу. И поскорее вышел.
Через две недели после этого факта повестку в суд получаю по делу Блохиной.
Являюсь и удивляюсь.
Нарсудья дело рассматривает и говорит: - Нынче, говорит, все суды такими делами закрючены, а тут еще, не угодно ли. Платите,- говорит,- этой гражданке двугривенный и очищайте воздух в камере.
Я говорю: - Я платить не отказываюсь, а только пущай мне этот треснувший стакан отдадут из принципа.
Вдова говорит: - Подавись этим стаканом. Бери его.
На другой день, знаете, ихний дворник Семен приносит стакан. И еще нарочно в трех местах треснувший.
Ничего я на это не сказал, только говорю: - Передай,- говорю,- своим сволочам, что теперь я их по судам затаскаю.
Потому, действительно, когда характер мой задет,- я могу до трибунала дойти.
1923 Матренища Которая беднота, может, и получила дворцы, а Иван Савичу дворца, между прочим, не досталось. Рылом не вышел. И жил Иван Савич в прежней своей квартирке, на Большой Пушкарской улице.
А уж и квартирка же, граждане! Одно заглавие, что квартирка - в каждом углу притулившись фигура. Бабка Анисья - раз, бабка Фекла -два, Пашка Огурчик - три... Тьфу, ей-богу, считать грустно! В этакой квартирке да при такой профессии, как у Ивана Савича - маляр и живописец,- нипочем невозможно было жить. Давеча случай был: бабка Анисья подолом все контуры на вывеске смахнула. Вот до чего тесно. От этого, может, Иван Савич и из бедности никогда не вылезал.
А была у Ивана Савича жена. Драгоценная супруга Матрена Васильевна. Вот протобестия бабища! То есть, граждане, другой такой бабищи во всей советской России не найдешь. А ежели и найдешь, то безо всякой амнистии при первом знакомстве давить таких нужно.
Мотей ее Иван Савич величал. Хороша Мотя! Матрена. Матренища. Ведь она чего с Иван Савичем сделала? Она, дьявол-баба, Ивану Савичу помереть не дала. Ей-богу, правда! Ужасно вредная бабища. Только что не кусалась. А может, и кусалась. Пес ее разберет. Там, где ссора какая, где по роже друг друга лупят - там и Матренища. Как рыба она в воде ныряет, как кабан в грязи крутится. Кого подначивает, а кого и сама бьет.
А между тем прожила она с Иван Савичем почти что пятнадцать лет душа в душу. Правда, дрались, слов нет. До крови иной раз бились, но так, чтобы слишком крупных ссор или убийств - не было. Все-таки понимала Матренища, что Иван Савич несколько иного порядка человек. И верно: талантище у него был громадный. Иной раз такое на вывеске изобразит - понять невозможно. Одним словом, специальный был живописец. И притом старательный. Ну, да не везло. Пребедно жил человек.
Пребедно жил человек, а тут заболел еще. А перед тем как заболеть, ослаб вдруг до невозможности. И не то, чтобы он ногой не мог двинуть, ногой он мог двинуть, а ослаб, как бы сказать, душевно и психологически. Затосковал он по другой, легкой жизни. Стали ему разные кораблики сниться, цветочки, настурции, дворцы какие-то. Сам стал он тихий, пугливый, мечтательный. Все обижался, что неспокойно у них на квартире. И зачем, дескать, бабка Анисья у плиты ровно слон ходит. И зачем Пашка Огурчик на балалайке ежедневно стрекочет.
Все тишины хотел. Ну, прямо-таки собрался человек помереть. На рыбное его даже потянуло. Все солененького стал просить - селедки.
Так вот, во вторник он заболел, в среду стал просить селедку, а в четверг Матренища на "него и насела.
И зачем,- говорит,- ты лег? Может, ты нарочно лег. Я почем знаю. Может, ты работу не хочешь исполнять.
Она, конечно, пилит, а он молчит.
«Пущай,- думает,- языком баба треплет. Мне теперича все равно. Чувствую, граждане, что помру скоро».
А сам, знаете ли, весь горит, брендит и ночью по постели мечется. А днем лежит ослабевший, как сукин сын, и ноги врозь. И все мечтает.
Мне бы,- говорит,- перед смертью на лоно природы выехать, посмотреть, какое оно. Никогда,- говорит,- ничего подобного не видел.
И вот осталось, может, ему мечтать два или три дня, как произошло такое обстоятельство.
Подходит к кровати Матрена Васильевна и говорит: - Помираешь? - говорит.
Да,- говорит Иван Савич,- помираю, Мотя... Ноги уж у меня легкие стали. Отымаются будто.
А я,- говорит ему Мотя,- не верю тебе. Я,- говорит,- позову сейчас медика. Пущай медик скажет. Тогда,- говорит,- и решим, помирать тебе или как.
И вот зовет она районного медика из коммунальной лечебницы. Районный медик Иван Савича осмотрел и говорит Моте: - Да,- говорит,- плох. Не иначе, как помрет в аккурат вскоре после моего ухода.
Так вот сказал районный медик и вышел, И подходит тогда Матрена к Ивану Савичу.
Значит, - говорит, - взаправду помираешь? А я,- говорит,- промежду прочим, не дам тебе помереть. Ты,- говорит,- бродяга, лег и думаешь, что теперь тебе все возможно? Врешь! Не дам я тебе помереть. Ишь ты, какой богатый сукин сын нашелся - помирать решил! Да откуда у тебя, у подлеца, деньги, чтоб помереть? Нынче, для примеру, обмыть покойника и то денег стоит.
Тут добродушная бабка Анисья вперед выступает.
Я,- говорит,- обмою. Я,- говорит,- Иван Савич, тебя обмою. Ты не сомневайся. И денег я с тебя за это то есть ни копеечки не возьму. Это,- говорит,- вполне божеское дело - обмыть покойника.
Тут, конечно, Матрена Васильевна на Анисью насела.
Ага,- говорит,- обмоешь? А,- говорит,- гроб? А для примеру - тележка? Тьфу на всех! Не дам я ему помирать. Пущай прежде капитал заработает... Заработай, Иван Савич, на гроб и помирай хошь два раза-слова не скажу.
От этих слов побелел даже Иван Савич.
Как же,- говорит,- так, Мотя. Не от меня же это, помереть, зависит. Без денег я помру, Мотя, слышишь? Как же так? - А так,- говорит Матрена Васильевна.- Не дам и не дам. Вечером чтоб были у меня деньги. Иди, рой землю, а достань. Баста.
Ладно,- говорит Иван Савич,- я пойду уж, попрошу.
И до вечера, знаете ли, лежал Иван Савич словно померший, дыхание у него даже прерывалось. А вечером стал одеваться. Поднялся с койки, покряхтел и вышел на улицу, И вышел страшный: нос тончайший, руки дугой и ноги еле земли касаются. Вышел он во двор. Дворника Игната встретил. Дворник говорит: - Ивану Савичу. С поправлением здоровья.
А Иван Савич посмотрел на него скучным взором и отвечает: - Игнат, а Игнат. Дай денег... Не отдам я, это верно. Потому завтра помру. Между тем Мотя требует. Обмыть покойника. Игнат, чего стоит.
Уходи ты,-говорит Игнат тихо.-Мне,- говорит,- на тебя, милый, смотреть ужасно.
И Иван Савич ушел. Вышел на улицу. Добрел до Большого проспекта. На тумбу сел. Хотел громко крикнуть, а вышло тихонечко.
Граждане, помираю.
Кто-то положил ему на колени деньги. Потом еще и еще.
К ночи Иван Савич вернулся домой. Пришел он распаренный и в снегу. Пришел и лег на койку, В руках у него были деньги. Хотела Мотя подсчитать - не дал.
Не тронь,- говорит,- погаными руками. Мало еще.
На другой день Иван Савич опять встал. Опять покряхтел, оделся и, распялив руки, вышел на улицу.
К ночи вернулся опять с деньгами. Подсчитал выручку и лег.
На третий день тоже. А там и пошло и пошло - встал человек на ноги.
Так и не помер. Не дала ему Матренища помереть.
Вот чего сделала Матрена с Иван Савичем.
Конечно, какой-нибудь районный лейб-медик, прочитав этот рассказ, усмехнется. Скажет, что науке неизвестны такие факты и что Матрена Васильевна ни при чем тут. Но, может, науке и действительно неизвестны такие факты, однако Иван Савич и посейчас жив. И даже ежедневно вечером сидит себе здоровешенький на проспекте, на углу Гулярной улицы, и тихим голосом просит граждан об одолжении.
А знаете что? А ведь этот случай можно истолковать и медицински, научно. Может, Иван Савич, выйдя на улицу, слишком распарился от волнения, перепрел, и с потом у него вышла болезнь наружу.
Впрочем, неизвестно, 1923
Григорий Иванович шумно вздохнул, вытер подбородок рукавом и начал рассказывать:
Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фильдекосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место.
А в своё время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней и в театр водил. В театре-то всё и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всём объёме.
А встретился я с ней во дворе дома. На собрании. Гляжу, стоит этакая фря. Чулочки на ней, зуб золочёный.
- Откуда,- говорю,- ты, гражданка? Из какого номера?
- Я,- говорит,- из седьмого.
- Пожалуйста,- говорю,- живите.
И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней. В седьмой номер. Бывало, приду, как лицо официальное. Дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода и уборной? Действует?
- Да,- отвечает,- действует.
И сама кутается в байковый платок, и ни мур-мур больше. Только глазами стрижёт. И зуб во рте блестит.
Походил я к ней месяц - привыкла. Стала подробней отвечать. Дескать, действует водопровод, спасибо вам, Григорий Иванович.
Дальше - больше, стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит себя под руку принять. Приму её под руку и волочусь, что щука. И чего сказать - не знаю, и перед народом совестно.
Ну, а раз она мне и говорит:
- Что вы,- говорит,- меня всё по улицам водите? Аж голова закрутилась. Вы бы,- говорит,- как кавалер и у власти, сводили бы меня, например, в театр.
- Можно,- говорю.
И как раз на другой день прислала комячейка билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька-слесарь пожертвовал.
На билеты я не посмотрел, а они разные. Который мой - внизу сидеть, а который Васькин - аж на самой галерке.
Вот мы и пошли. Сели в театр. Она села на мой билет, я - на Васькин. Сижу на верхотурье и ни хрена не вижу. А ежели нагнуться через барьер, то её вижу. Хотя плохо. Поскучал я, поскучал, вниз сошёл. Гляжу - антракт. А она в антракте ходит.
- Здравствуйте,- говорю.
- Здравствуйте.
- Интересно,- говорю,- действует ли тут водопровод?
- Не знаю,- говорит.
И сама в буфет. Я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюдо. На блюде пирожные.
А я этаким гусем, этаким буржуем нерезаным вьюсь вокруг её и предлагаю:
- Ежели,- говорю,- вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь. Я заплачу.
- Мерси,- говорит.
И вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом, и жрёт.
А денег у меня - кот наплакал. Самое большое, что на три пирожных. Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю, смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег - с гулькин нос.
Съела она с кремом, цоп другое. Я аж крякнул. И молчу. Взяла меня этакая буржуйская стыдливость. Дескать, кавалер, а не при деньгах.
Я хожу вокруг неё, что петух, а она хохочет и на комплименты напрашивается.
Я говорю:
- Не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть.
А она говорит:
- Нет.
И берёт третье.
Я говорю:
- Натощак - не много ли? Может вытошнить.
А она:
- Нет,- говорит,- мы привыкшие.
И берёт четвёртое.
Тут ударила мне кровь в голову.
- Ложи,- говорю,- взад!
А она испужалась. Открыла рот, а во рте зуб блестит.
А мне будто попала вожжа под хвост. Всё равно, думаю, теперь с ней не гулять.
- Ложи,- говорю,- к чёртовой матери!
Положила она назад. А я говорю хозяину:
- Сколько с нас за скушанные три пирожные?
А хозяин держится индифферентно - ваньку валяет.
- С вас,- говорит,- за скушанные четыре штуки столько-то.
- Как,- говорю,- за четыре?! Когда четвёртое в блюде находится.
- Нету,- отвечает,- хотя оно и в блюде находится, но надкус на ём сделан и пальцем смято.
- Как,- говорю,- надкус, помилуйте! Это ваши смешные фантазии.
А хозяин держится индифферентно - перед рожей руками крутит.
Ну, народ, конечно, собрался. Эксперты.
Одни говорят - надкус сделан, другие - нету.
А я вывернул карманы - всякое, конечно, барахло на пол вывалилось,- народ хохочет. А мне не смешно. Я деньги считаю.
Сосчитал деньги - в обрез за четыре штуки. Зря, мать честная, спорил.
Заплатил. Обращаюсь к даме:
- Докушайте,- говорю,- гражданка. Заплачено.
А дама не двигается. И конфузится докушивать.
А тут какой-то дядя ввязался.
- Давай,- говорит,- я докушаю.
И докушал, сволочь. За мои-то деньги.
Сели мы в театр. Досмотрели оперу. И домой.
А у дома она мне и говорит своим буржуйским тоном:
- Довольно свинство с вашей стороны. Которые без денег - не ездют с дамами.
А я говорю:
- Не в деньгах, гражданка, счастье. Извините за выражение.
Так мы с ней и разошлись.
Не нравятся мне аристократки.
Григорий Иванович шумно вздохнул, вытер подбородок рукавом и начал
рассказывать:
- Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке,
ежели чулочки на ней фильдекосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб
золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место.
А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней и
в театр водил. В театре-то все и вышло. В театре она и развернула свою
идеологию во всем объеме.
А встретился я с ней во дворе дома. На собрании. Гляжу, стоит этакая
фря. Чулочки на ней, зуб золоченый.
- Откуда, - говорю, - ты, гражданка? Из какого номера?
- Я, - говорит, - из седьмого.
- Пожалуйста, - говорю, - живите.
И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней. В седьмой
номер. Бывало, приду, как лицо официальное. Дескать, как у вас, гражданка, в
смысле порчи водопровода и уборной? Действует?
- Да, - отвечает, - действует.
И сама кутается в байковый платок, и ни мур-мур больше. Только глазами
стрижет. И зуб во рте блестит. Походил я к ней месяц - привыкла. Стала
подробней отвечать. Дескать, действует водопровод, спасибо вам, Григорий
Иванович.
Дальше - больше, стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а
она велит себя под руку принять. Приму ее под руку и волочусь, что щука. И
чего сказать - не знаю, и перед народом совестно.
Ну, а раз она мне и говорит:
- Что вы, говорит, меня все по улицам водите? Аж голова закрутилась. Вы
бы, говорит, как кавалер и у власти, сводили бы меня, например, в театр.
- Можно, - говорю.
И как раз на другой день прислала комячейка билеты в оперу. Один билет
я получил, а другой мне Васька-слесарь пожертвовал.
На билеты я не посмотрел, а они разные. Который мой - внизу сидеть, а
который Васькин - аж на самой галерке.
Вот мы и пошли. Сели в театр. Она села на мой билет, я - на Васькин.
Сижу на верхотурье и ни хрена не вижу. А ежели нагнуться через барьер, то ее
вижу. Хотя плохо. Поскучал я, поскучал, вниз сошел. Гляжу - антракт. А она в
антракте ходит.
- Здравствуйте, - говорю.
- Здравствуйте.
Интересно, - говорю, - действует ли тут водопровод?
- Не знаю, - говорит.
И сама в буфет. Я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на
стойке блюдо. На блюде пирожные.
А я этаким гусем, этаким буржуем нерезаным вьюсь вокруг ее и предлагаю:
- Ежели, говорю, вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь. Я
заплачу.
- Мерси, - говорит.
И вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом и жрет.
А денег у меня - кот наплакал. Самое большое, что на три пирожных. Она
кушает, а я с беспокойством по карманам шарю, смотрю рукой, сколько у меня
денег. А денег - с гулькин нос.
Съела она с кремом, цоп другое. Я аж крякнул. И молчу. Взяла меня
этакая буржуйская стыдливость. Дескать, кавалер, а не при деньгах.
Я хожу вокруг нее, что петух, а она хохочет и на комплименты
напрашивается.
Я говорю:
- Не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть.
А она говорит:
- Нет.
И берет третье.
Я говорю:
- Натощак - не много ли? Может вытошнить.
А она:
- Нет, - говорит, - мы привыкшие.
И берег четвертое.
Тут ударила мне кровь в голову.
- Ложи, - говорю, - взад!
А она испужалась. Открыла рот, а во рте зуб блестит.
А мне будто попала вожжа под хвост. Все равно, думаю, теперь с ней не
гулять.
- Ложи, - говорю, - к чертовой матери!
Положила она назад. А я говорю хозяину:
- Сколько с нас за скушанные три пирожные?
А хозяин держится индифферентно - ваньку валяет.
- С вас, - говорит, - за скушанные четыре штуки столько-то.
- Как, - говорю, - за четыре?! Когда четвертое в блюде находится.
- Нету, - отвечает, - хотя оно и в блюде находится, но надкус на ем
сделан и пальцем смято.
- Как, - говорю, - надкус, помилуйте! Это ваши смешные фантазии.
А хозяин держится индифферентно - перед рожей руками крутит.
Ну, народ, конечно, собрался. Эксперты.
Одни говорят - надкус сделан, другие - нету.
А я вывернул карманы - всякое, конечно, барахло на пол вывалилось,
народ хохочет. А мне не смешно. Я деньги считаю.
Сосчитал деньги - в обрез за четыре штуки. Зря, мать честная, спорил.
Заплатил. Обращаюсь к даме:
- Докушайте, говорю, гражданка. Заплачено.
А дама не двигается. И конфузится докушивать.
А тут какой-то дядя ввязался.
- Давай, - говорит, - я докушаю.
И докушал, сволочь. За мои-то деньги.
Сели мы в театр. Досмотрели оперу. И домой.
А у дома она мне и говорит своим буржуйским тоном:
- Довольно свинство с вашей стороны. Которые без денег - не ездют с
дамами.
А я говорю.
- Не в деньгах, гражданка, счастье. Извините за выражение.
Так мы с ней и разошлись.
Не нравятся мне аристократки.
Разрешите краткий анализ, хотя Зощенко анализировать и сложно и легко, да и не нужно, может, но вот хочется высказать свои краткие соображения.
Герой рассказа неизменно почитает себя непогрешимым "уважаемым гражданином", хотя на самом деле - чванный обыватель. Со времен Зощенко ничего не изменилось, таких кругом - пруд пруди! А ведь тут все просто, этот человек - наследник босоногих и пьяных пролетариев, которые захватили власть в 1917, а что с ней делать, бедняги, понятия не имеют!)) Работать не умеют, не хотят и не любят, НО - хотят "казаться солидными"(надо сказать, себе - "кажутся"). И вот, на стыке истинного и ложного и проскакивает комическая искра. На мой взгляд у Зощенко главное - мотив разлада, несогласованности героя с ритмом и духом времени.