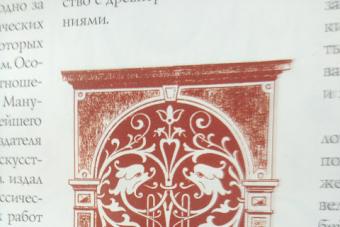Американский прозаик О. Генри (настоящее имя и фамилия Вильям Сидней Портер) родился 11 сентября 1862 года в Гринсборо, штат Северная Каролина. Он является автором свыше двухсот восьмидесяти рассказов, скетчей, юморесок. Жизнь Вильяма Портера была нерадостной c самого детства. В три года он потерял мать, а отец, провинциальный врач, став вдовцом, начал пить и вскоре превратился в никудышного алкоголика.
Покинув школу, пятнадцатилетний Билли Портер стал за аптечный прилавок. Работа в окружении микстуры от кашля и порошков от блох пагубно повлияла на его и без того подорванное здоровье.
В 1882 году Билли отправился в Техас, два года жил на ранчо, а затем устроился в Остини, служил в земельном управлении, кассиром и счетоводом в банке. Из банковской карьеры ничего путного у него не вышло. Портера обвинили в растрате 1150 долларов - очень серьезной суммы на то время. Биографы писателя и доныне спорят, был ли он в действительности виновен. С одной стороны, он нуждался в деньгах для лечения больной жены (и для издания "Rolling Stone"), с другой - кассир Портер уволился из банка в декабре 1894 года, тогда как растрата была раскрыта только в 1895 году, причем владельцы банка были на руку нечисты. Против Портера возбудили уголовное дело, и в феврале 1896 года он в панике убегает в Новый Орлеан, а оттуда - в Гондурас. В этой стране судьба свела Портера с приятным джентльменом - профессиональным бандитом-грабителем Эллом Дженнингсом.
Много позже Дженнингс, отложив револьвер, взялся за перо и создал мемуары, в которых вспоминал интересные эпизоды латиноамериканских приключений. Друзья принимали участие в местном гондурасском путче, потом убежали в Мексику, где Дженнингс спас будущего писателя от неминуемой смерти. Портер неосторожно поухаживал за какой-то замужней женщине; муж, который был где-то поблизости, мексиканец-мачо достал ножичек с лезвием длиной в два фута и хотел защитить свою честь. Ситуацию урегулировал Дженнингс - выстрелом от бедра выстрелил ревнивцу в голову, после чего они с Вильямом сели на коней, и конфликт остался позади.
В Мексике Портер получил телеграмму, в которой сообщалось о том, что его любимая жена, - Атолл Эстес умирает. Во время отсутствия мужа, она не имела средств к существованию, голодала, а заболев, не могла купить лекарства, однако в преддверие Рождества продала за двадцать пять долларов кружевную накидку и выслала Биллу в Мехико подарок - золотую цепочку для часов. К сожалению, именно в тот момент Портер продал свои часы, чтобы купить билет на поезд. Он успел увидеться и попрощаться с женой. Через несколько дней она умерла. Агенты полиции с жалобной повязкой молча шли за гробом. Сразу после похорон они арестовали кассира-растратчика, который не сказал ни одного слова на суде и получил пять лет тюрьмы.
В ссылке Портер пробыл три года и три месяца. Освободился досрочно (за образцовое поведение и хорошую работу в тюремной аптеке) летом 1901 года. Тюремные годы он никогда не вспоминал. Помогли воспоминания Элла Дженнингса, что по иронии судьбы опять очутился бок о бок с писателем в каторжной тюрьме Коламбуса, штат Огайо.
Вместе с Портером и Дженнингсом сидел двадцатилетний "медвежатник" (взломщик сейфов) Дикий Прайс. Он сделал хорошее дело - спас из сейфа, который неожиданно закрылся, маленькую дочь богатого бизнесмена. Срезав ножом ногти, Прайс открыл сверхсекретный замок за двенадцать секунд. Ему обещали помилование, но обманули. По этому сюжету Портер составил свой первый рассказ - о взломщике Джимми Валентайне, который спас племянницу своей невесты из огнеупорного шкафа. Рассказ, в отличие от истории Дика Прайса, заканчивался счастливо.
Прежде чем послать рассказ в газету, Портер прочитал его сокамерникам. Элл Дженнингс вспоминал: "С той минуты, как Портер начал читать своим низким, бархатным, слегка заикающимся, голосом, воцарилась мертвая тишина. Мы абсолютно замерли, затаив дыхание. Наконец грабитель Рейдлер громко вздохнул, и Портер, будто проснувшись от сна, взглянул на нас. Рейдлер улыбнулся и взялся тереть глаза своей искалеченной рукой.- Черти бы вас взяли, Портер, это впервые за мою жизнь. Накажи меня Господь, если я знал, как выглядит слеза!" Рассказы в печать взяли не сразу. Три следующих были опубликованы под псевдонимом.
Находясь в тюрьме, Портер стеснялся печататься под своей фамилией. В аптечном справочнике он натолкнулся на фамилию известного в то время французского фармацевта О.Анри. Именно ее в той же транскрипции, но в английском произношении (О.Генри) писатель избрал своим псевдонимом до конца жизни. Выходя из тюремных ворот, он вымолвил фразу, которую цитируют уже в течение если не века: "Тюрьма могла бы сделать большую услугу обществу, если бы общество выбирало, кого туда сажать".
В конце 1903 года О. Генри подписал контракт с нью-йоркской газетой "World" на еженедельную сдачу короткого воскресного рассказа - по сто долларов за одно произведение. Этот гонорар на то время был достаточно большим. Годовой заработок писателя равнялся прибыли популярных американских романистов.
Но бешеный темп работы мог убить и более здорового человека, чем О. Генри, который не мог отказать еще и другим периодическим изданиям. В течение 1904 года О. Генри напечатал шестьдесят шесть рассказов, за 1905 - шестьдесят четыре. Иногда, сидя в редакции, он дописывал сразу два рассказа, а рядом переминался редакционный художник, ожидая, когда можно будет начать иллюстрировать.
Читатели американской газеты не могли осилить большие тексты, терпеть не могли философствование и трагические истории. О. Генри стало недоставать сюжетов, и он в будущем чаще брал, а то и покупал их у друзей и знакомых. Постепенно он стал уставать и снижал темп. Однако из-под его пера вышло 273 рассказов - свыше тридцати рассказов за год. Рассказы обогатили газетчиков и издателей, но не самого О. Генри - непрактичного, который привык к полубогемной жизни. Он никогда не торговался, ничего не выяснял. Молча получал свои деньги, благодарил и шел: "Я должен мистеру Гилмену Холлу, по его словам, 175 долларов. Думаю, что должен ему не больше 30 долларов. Но он умеет считать, а я нет...".
Он избегал обществ литературных побратимов, стремился к одиночеству, чурался светских приемов, не давал интервью. По несколько суток без уважительной причины блуждал Нью-Йорком, потом запирал дверь комнаты и писал.
В блужданиях и отчужденности он узнавал и "переваривал" большой город, Вавилон-на-гудзоне, Багдад-над-подземкой, - его звуки и огни, надежда и слеза, сенсация и провалы. Он был поэтом нью-йоркского дна и самых низких социальных слоев, мечтателем и фантазером кирпичных закоулков. В унылых кварталах Гарлема и Кони-Айленда волей О.Генри появлялись Золушки и Дон Кихоты, Гарун аль-рашиды и Диогены, которые были всегда готовы прийти на спасение к тем, кто погибает, чтобы обеспечить реалистичному рассказу неожиданную развязку.
Последнюю неделю жизни О.Генри провел в одиночестве, в нищем гостиничном номере. Он болел, много пил, уже не мог работать. На сорок восьмом году жизни в нью-йоркской больнице он перешел в другой мир, в отличие от своих героев, так и не достав чудодейственной помощи.
Похороны писателя вылились в настоящий огенриевский сюжет. Во время панихиды к церкви ввалилась веселая свадебная компания, и не сразу поняла, что придется подождать на входе.
О.Генри можно было бы назвать своеобразным запоздалым романтиком, американским сказочником XX века, но природа его уникального новеллистического творчества шире этих определений. Гуманизм, независимая демократичность, бдительность художника, к социальным условиям в свое время, его юмор и комедия преобладают над сатирой, а "утешительный" оптимизм - над горечью и возмущением. Именно они создали уникальный новеллистический портрет Нью-Йорка на заре эры монополии - многоликого, привлекательного, загадочного и жестокого мегаполиса с его четырьмя миллионами "маленьких американцев". Интерес и сочувствие читателя к жизненным перипетиям, клеркам, продавщицам, бурлакам, безвестным художникам, поэтам, актрисам, ковбоям, мелким авантюристам, фермерам, и тому подобным, считается особенным даром, что свойственно О.Генри как пересказчику. Образ, который возникает будто на глазах, откровенно условен, приобретает быстротечную иллюзорную достоверность - и навсегда остается в памяти. В поэтике новеллы О. Генри очень важный элемент острой театральности, что, несомненно, связано с его мироощущением фаталиста, который слепо верит в Случай или Судьбу. Освобождая своих героев от "глобальных" размышлений и решений, О.Генри никогда не отворачивает их от моральных ориентиров: в его маленьком мире действуют твердые законы этики, человечности, - даже у тех персонажей, чьи действия не всегда соглашаются с законами. Чрезвычайно богатой, ассоциативным и изобретательным является язык его новеллы, насыщенный пародийными пассажами, иллюзией, скрытой цитатой и всяческими каламбурами, которые ставят чрезвычайно сложные задания перед переводчиками, - ведь именно в языке О.Генри заложен "формообразовательный фермент" его стиля. При всей своей оригинальности новелла О.Генри - явление сугубо американское, что выросло на национальной литературной традиции (от Э. По к Б. Гарта и М. Твена).
Письма и незаконченная рукопись свидетельствуют о том, что в последние годы жизни О.Генри подошел к новому рубежу. Он жаждал "простой честной прозы", стремился освободиться от определенных стереотипов и "Розовых концовок", которых ожидала от него коммерческая пресса, ориентированная на мещанские вкусы.
Большая часть его рассказов, которая публиковалась в периодике, вошла в сборники, которые были выданы при его жизни: "Четыре миллиона" (1906), "Пылающий светильник" (1907), "Сердце Запада" (1907), "Голос города" (1908), "Благородный плут" (1908), "Дорога судьбы" (1909), "На выбор" (1909), "Деловые люди" (1910), "Заразиха" (1910). Посмертно выдан еще больше десяток сборников. Роман "Короли и капуста" (1904) состоит из условно связанных сюжетом авантюрно юмористических новелл, действие которой происходит в Латинской Америке.
Судьба наследства О.Генри была не менее тяжелой, чем личная судьба В. С. Портера. После десятилетия славы наступила пора беспощадной критической переоценки ценности - реакция на тип "хорошо выполненного рассказа". Впрочем, приблизительно с конца 50-х лет прошлого века в США опять возродился литературоведческий интерес к творчеству и биографии писателя. Что же касается читательской любви к нему, то она неизменна: О.Генри, как и раньше, занимает постоянное место среди авторов, которых любят перечитывать во многих странах мира.
Изумительное
Мы знаем человека, который является, пожалуй, самым остроумным из всех мыслителей, когда-либо рождавшихся в нашей стране. Его способ логически разрешать задачу почти граничит с вдохновением.
Как-то на прошлой неделе жена просила его сделать кое-какие покупки и, ввиду того, что при всей мощности логического мышления, он довольно-таки забывчив на житейские мелочи, завязала ему на платке узелок. Часов около девяти вечера, спеша домой, он случайно вынул платок, заметил узелок и остановился, как вкопанный. Он - хоть убейте! - не мог вспомнить, с какой целью завязан этот узел.
Посмотрим, - сказал он. - Узелок был сделан для того, чтобы я не забыл. Стало быть он - незабудка. Незабудка - цветок. Ага! Есть! Я должен купить цветов для гостиной.
Могучий интеллект сделал свое дело.
Призыв незнакомца
Он был высок, угловат, с острыми серыми глазами и торжественно-серьезным лицом. Темное пальто на нем было застегнуто на все пуговицы и имело в своем покрое что-то священническое. Его грязно-рыжеватые брюки болтались, не закрывая даже верхушек башмаков, но зато его высокая шляпа была чрезвычайно внушительна, и вообще можно было подумать, что это деревенский проповедник на воскресной прогулке.
Он правил, сидя в небольшой тележке, и когда поровнялся с группой в пять-шесть человек, расположившейся на крыльце почтовой конторы маленького техасского городка, остановил лошадь и вылез.
Друзья мои, - сказал он, - у вас всех вид интеллигентных людей, и я считаю своим долгом сказать несколько слов касательно ужасного и позорного положения вещей, которое наблюдается в этой части страны. Я имею ввиду кошмарное варварство, проявившееся недавно в некоторых из самых культурных городов Техаса, когда человеческие существа, созданные по образу и подобию творца, были подвергнуты жестокой пытке, а затем зверски сожжены заживо на самых людных улицах. Что-нибудь нужно предпринять, чтобы стереть это пятно с чистого имени вашего штата. Разве вы не согласны со мной?
Вы из Гальвестона, незнакомец? - спросил один из людей.
Нет, сэр. Я из Массачусетса, колыбели свободы несчастных негров и питомника их пламеннейших защитников. Эти костры из людей заставляют нас плакать кровавыми слезами, и я здесь для того, чтобы попытаться пробудить в ваших сердцах сострадание к чернокожим братьям.
И вы не будете раскаиваться в том, что призвали огонь для мучительного отправления правосудия?
Нисколько.
И вы будете продолжать подвергать негров ужасной смерти на кострах?
Если обстоятельства заставят.
В таком случае, джентльмены, раз ваша решимость непоколебима, я хочу предложить вам несколько гроссов спичек, дешевле которых вам еще не приходилось встречать. Взгляните и убедитесь. Полная гарантия. Не гаснут ни при каком ветре и воспламеняются обо все, что угодно: дерево, кирпич, стекло, чугун, железо и подметки. Сколько ящиков прикажете, джентльмены?
Роман полковника
Они сидели у камина за трубками. Их мысли стали обращаться к далекому прошлому.
Разговор коснулся мест, где они провели свою юность, и перемен, которые принесли с собой промелькнувшие годы. Все они уже давно жили в Хаустоне, но только один из них был уроженцем Техаса.
Полковник явился из Алабамы, судья родился на болотистых берегах Миссисипи, бакалейный торговец увидел впервые божий свет в замерзшем Мэне, а мэр гордо заявил, что его родина - Теннеси.
Кто-нибудь из вас, ребята, ездил на побывку домой, с тех пор как вы поселились здесь? - спросил полковник.
Оказалось, что судья побывал дома дважды за двадцать лет, мэр - один раз, бакалейщик - ни разу.
Это забавное ощущение, - сказал полковник, - посетить места, где вы выросли, после пятнадцатилетнего отсутствия. Увидеть людей, которых вы столько времени не видели, все равно, что увидеть привидения. Что касается меня, то я побывал в Кросстри, в Алабаме, ровно через пятнадцать лет со дня своего отъезда оттуда. Я никогда не забуду впечатления, которое на меня произвел этот визит.
В Кросстри жила некогда девушка, которую я любил больше, чем кого-либо на свете. В один прекрасный день я ускользнул от приятелей и направился в рощу, где когда-то часто гулял с ней. Я прошел по тропинкам, по которым ступали наши ноги. Дубы по обеим сторонам почти не изменились. Голубенькие цветочки могли быть теми же самыми, которые она вплетала себе в волосы, выходя ко мне навстречу.
Особенно мы любили гулять вдоль ряда густых лавров, за которыми журчал крохотный ручеек. Все было точно таким же. Никакая перемена не терзала мне сердца. Надо мной высились те же огромные сикоморы и тополя; бежала та же речушка; мои ноги ступали по той же тропе, по которой мы часто гуляли с нею. Похоже было, что если я подожду, она обязательно придет, легко ступая во мраке, со своими глазами-звездами и каштановыми кудрями, такая же любящая, как и прежде. Мне казалось тогда, что ничто не могло бы нас разлучить - никакое сомнение, никакое непонимание, никакая ложь. Но - кто может знать?
Я дошел до конца тропинки. Там стояло большое дуплистое дерево, в котором мы оставляли записки друг другу. Сколько сладких вещей могло бы рассказать это дерево, если б только оно умело! Я считал, что после щелчков и ударов жизни мое сердце огрубело - но оказалось, что это не так.
Я заглянул в дупло и увидел что-то, белевшее в глубине его. То был сложенный листок бумаги, желтый и запыленный от времени. Я развернул и с трудом прочел его.
"Любимый мой Ричард! Ты знаешь, что я выйду за тебя замуж, если ты хочешь этого. Приходи пораньше сегодня вечером, и я дам тебе ответ лучше, чем в письме. Твоя и только твоя Нелли".
Джентльмены, я стоял там, держа в руке этот маленький клочок бумаги, как во сне. Я писал ей, прося стать моей женой, и предлагал положить ответ в дупло старого дерева. Она, очевидно, так и сделала, но я не нашел его в темноте, и вот все эти годы промчались с тех пор над этим деревом и этим листком…
Слушатели молчали. Мэр вытер глаза, а судья забавно хрюкнул. Они были пожилыми людьми теперь, но и они знали любовь в молодости.
Вот тогда-то, - сказал бакалейный торговец, - вы и отправились в Техас и никогда больше не встречались с нею?
Нет, - сказал полковник, - когда я не пришел к ним в ту ночь, она
послала ко мне отца, и через два месяца мы поженились. Она и пятеро
ребят сейчас у меня дома. Передайте табак, пожалуйста.
........................................
Copyright: короткие рассказы О, ГЕНРИ
СТОП! Рассказ О. Генри «Без вымысла» можно прочитать на английском языке и затем проверить себя — Уровень рассказа соответствует среднему уровню (intermediate) , сложные слова выделены в тексте и переведены. Изучайте английский, читая мировую литературу.
Я работал внештатным сотрудником в одной газете и надеялся, что когда-нибудь меня переведут на постоянное жалованье. В конце длинного стола, заваленного газетными вырезками, было мое местечко. Я писал обо всем, что нашептывал, трубил и кричал мне огромный город во время моих блужданий по его улицам. Заработок мой не был регулярным.
В сборник вошли рассказы:Однажды ко мне подошел и оперся на мой стол некто Трипп. Он что-то делал в печатном отделе, от него пахло химикалиями, руки были вечно измазаны и обожжены кислотами. Ему было лет двадцать пять, а на вид — все сорок. Половину его лица скрывала короткая курчавая рыжая борода. У него был болезненный, жалкий, заискивающий вид, и он постоянно занимал деньги в сумме от двадцати пяти центов до одного доллара. Больше доллара он не просил никогда. Присев на краешек стола, Трипп стиснул руки, чтобы они не дрожали. Виски! Он всегда пытался держаться беспечно и развязно, это никого не могло обмануть, но помогало ему перехватывать взаймы, потому что очень уж жалкой была эта наигранность. В тот день мне удалось получить у нашего ворчливого бухгалтера пять блестящих серебряных долларов в виде аванса за рассказ, который весьма неохотно был принят для воскресного номера.
— Ну-с, Трипп, — сказал я, взглянув на него не слишком приветливо, — как дела?
Вид у него был еще более несчастный, измученный, пришибленный и подобострастный, чем обычно. Когда человек доходит до такой ступени унижения, он вызывает такую жалость, что хочется его ударить.
— У вас есть доллар? — спросил Трипп, и его собачьи глаза заискивающе блеснули в узком промежутке между высоко растущей спутанной бородой и низко растущими спутанными волосами.
— Есть! — сказал я. — Да, есть, — еще громче и резче повторил я, — и не один, а целых пять. И могу вас уверить, мне стоило немалого труда вытянуть их из старика Аткинсона. Но я их вытянул, — продолжал я, — потому что мне нужно было — очень нужно — просто необходимо — получить именно пять долларов.
Предчувствие неминуемой потери одного из этих долларов заставляло меня говорить внушительно.
— Я не прошу взаймы, — сказал Трипп. Я облегченно вздохнул. — Я думал, вам пригодится тема для хорошего рассказа, — продолжал он, — у меня есть для вас великолепная тема. Вы могли бы разогнать ее по меньшей мере на целую колонку. Получится прекрасный рассказ, если обыграть как надо. Материал стоил бы вам примерно один-два доллара. Для себя я ничего не хочу.
Я стал смягчаться. Предложение Триппа доказывало, что он ценит прошлые ссуды, хотя и не возвращает их. Догадайся он в ту минуту попросить у меня двадцать пять центов, он получил бы их немедленно.
— Что за рассказ? — спросил я и повертел в руке карандаш с видом заправского редактора.
— Слушайте, — ответил Трипп — Представьте себе: девушка. Красавица. Редкая красавица. Бутон розы, покрытый росой фиалка на влажном мху и прочее в этом роде. Она прожила двадцать лет на Лонг-Айленде и ни разу еще не была в НьюЙорке. Я налетел на нее на Тридцать четвертой улице. Она только что переехала на пароме через Восточную реку. Она остановила меня на улице и спросила, как ей найти Джорджа Брауна. Спросила, как найти в Нью-Йорке Джорджа Брауна. Что вы на это скажете?
Я разговорился с ней и узнал, что на будущей неделе она выходит замуж за молодого фермера Додда. Но, по-видимому, Джордж Браун еще сохранил первое место в ее девичьем сердце. Несколько лет назад этот Джордж начистил сапоги и отправился в Нью-Йорк искать счастья. Он забыл вернуться обратно, и Додд, занял его место. Но когда дошло до развязки, Ада — ее зовут Ада Лоури — оседлала коня, проскакала восемь миль до железнодорожной станции, села в первый утренний поезд и поехала в Нью-Йорк, искать Джорджа. Вот они, женщины! Джорджа нет, значит вынь да положь ей Джорджа.
Вы понимаете, не мог же я оставить ее одну в этом Городе-на-Гудзоне Она, верно, рассчитывала, что первый встречный должен ей ответить: «Джордж Браун? Дада-да… минуточку… такой коренастый парень с голубыми глазами? Вы его найдете на Сто двадцать пятой улице, рядом с бакалейной лавкой Он — кассир в магазине». Вот до чего она очаровательно наивна! Вы знаете прибрежные деревушки Лонг-Айленда -оттуда она и приехала. И вы обязательно должны ее увидеть! Я ничем не мог ей помочь. По утрам у меня деньги не водятся. А у нее почти все ее карманные деньги ушли на железнодорожный билет. На оставшуюся четверть доллара она купила леденцов и ела их прямо из кулечка. Мне пришлось отвести ее в меблированные комнаты на Тридцать второй улице, где я сам когда-то жил, и заложить ее там за доллар. Старуха Мак-Гиннис берет доллар в день. Я провожу вас туда.
— Что вы плетете, Трипп? — сказал я. — Вы ведь говорили, что у вас есть тема для рассказа. А каждый паром, пересекающий Восточную реку, привозит и увозит с ЛонгАйленда сотни девушек…
Ранние морщины на лице Триппа врезались еще глубже. Он серьезно глянул на меня из-под своих спутанных волос, разжал руки и, подчеркивая каждое слово движением трясущегося указательного пальца, сказал:
— Неужели вы не понимаете, какой изумительный рассказ из этого можно сделать? У вас отлично выйдет. Поромантичнее опишите девушку, нагородите всякой всячины о верной любви, можно малость подтрунить над простодушием жителей Лонг-Айленда, — ну, вы то лучше меня знаете, как это делается. Вы получите никак не меньше пятнадцати долларов. А вам рассказ обойдется в каких-нибудь четыре. У вас останется чистых одиннадцать долларов!
— Почему это он обойдется мне в четыре доллара? спросил я подозрительно.
— Один доллар — миссис Мак-Гиннис, — без запинки ответил Трипп, — и два девушке, на обратный билет.
— А четвертое измерение? — осведомился я, быстро подсчитав кое-что в уме.
— Один доллар мне, — сказал Трипп. — На виски. Ну, идет?
Я загадочно улыбнулся и удобно пристроил на столе локти, делая вид, что возвращаюсь к прерванной работе. Но стряхнуть этот фамильярный, подобострастный, упорный, несчастный репейник в человеческом образе было не так-то легко. Лоб его вдруг покрылся блестящими бусинками пота.
— Неужели вы не понимаете, — сказал он с какой-то отчаянной решимостью, — что девушку нужно отправить домой сегодня днем — не вечером, не завтра, а сегодня днем! Я сам ничего не могу сделать!
Тут я начал ощущать тяжелое, как свинец, гнетущее чувство, именуемое чувством долга. Почему это чувство ложится на нас как груз, как бремя? Я понял, что в этот день мне суждено лишиться большей части с таким трудом добытых денег ради того, чтобы выручить Аду Лоури. Но я дал себе клятву, что Триппу не видать доллара на виски. Пусть сыграет на мой счет роль странствующего рыцаря, но устроить попойку в честь моего легковерия и слабости ему не удастся. С какой-то холодной яростью я надел пальто и шляпу.
Покорный, униженный Трипп, тщетно пытаясь угодить мне, повез меня на трамвае в гостиницу, куда он пристроил Аду. За проезд платил, конечно, я. Казалось, этот пропахший коллодием Дон Кихот и самая мелкая монета никогда не имели друг с другом ничего общего.
Трипп дернул звонок у подъезда мрачного кирпичного дома От слабого звяканья колокольчика он побледнел и сжался, точно заяц, заслышавший собак. Я понял, как ему живется, если приближающиеся шаги квартирной хозяйки приводят его в такой ужас.
— Дайте один доллар, скорей! — прошептал он.
Дверь приоткрылась дюймов на шесть В дверях стояла тетушка хозяйка гостиницы миссис Мак-Гиннис, белоглазая — да, да, у нее были белые глаза — и желтолицая, одной рукой придерживая у горла засаленный розовый фланелевый капот. Трипп молча сунул ей доллар, и нас впустили.
— Она в гостиной, — сказала Мак-Гиннис, поворачивая к нам спину своего капота.
В мрачной гостиной за треснутым круглым мраморным столам сидела девушка и, сладко плача, грызла леденцы. Она была безукоризненно красива. Слезы лишь усиливали блеск ее глаз. Когда она разгрызала леденец, можно было завидовать бесчувственной конфете. Ева в возрасте пяти минут — вот с кем могла сравниться Лоури в возрасте девятнадцати — двадцати лет. Трипп представил меня, леденцы были на мгновение забыты, и она стала рассматривать меня с наивным интересом.
Трипп стал у стола и оперся на него пальцами, словно адвокат. Но на этом сходство кончалось. Его поношенный пиджак был наглухо застегнут до самого ворота, чтобы скрыть отсутствие белья и галстука. Беспокойные глаза, сверкавшие в просвете между шевелюрой и бородой, — напоминали шотландского терьера. Меня кольнул недостойный стыд при мысли, что я был представлен безутешной красавице как его друг. Но Трипп, видимо, твердо решил вести церемонию по своему плану. Мне казалось, что в его позе, во всех его действиях сквозит стремление представить мне все происходящее как материал для газетного рассказа в надежде все-таки выудить у меня доллар на виски.
— Мой друг (я содрогнулся) мистер Чалмерс, — начал Трипп, — скажет вам то же самое, что уже сказал вам я, мисс Лоури. Мистер Чалмерс — репортер и может все объяснить вам гораздо лучше меня. Поэтому-то я и привел его. Он прекрасно во всем разбирается и может посоветовать, как вам лучше поступить.
Я не чувствовал особой уверенности в своей позиции, к тому же и стул, на который я сел, расшатался и поскрипывал.
— Э… э… мисс Лоури, — начал я, внутренне взбешенный вступлением Триппа. — Я весь к вашим услугам, но… э-э… мне неизвестны все обстоятельства дела, и я… гм…
— О! — сказала мисс Лоури, сверкнув улыбкой. — Дело не так уж плохо, обстоятельств-то никаких нет. В Нью-Йорк я сегодня приехала в первый раз, не считая того, что была здесь лет пяти от роду. Я никогда не думала, что это такой большой город И я встретила мистера… мистера Сниппа на улице и спросила его об одном моем знакомом, а он привел меня сюда и попросил подождать.
— По-моему, мисс Лоури, — вмешался Трипп, — вам лучше рассказать мистеру Чалмерсу все. Он — мой друг (я стал привыкать к этой кличке) и даст вам нужный совет.
— Ну, конечно, — обратилась ко мне Ада, грызя леденец, но больше и рассказывать нечего, кроме разве того, что в четверг я выхожу замуж за Хайрэма Додда.
Это уже решено. У него двести акров земли на самом берегу и один из самых доходных огородов на Лонг-Айленде. Но сегодня утром я велела оседлать мою лошадку, — у меня белая лошадка, ее зовут Танцор, — и поехала на станцию Дома я сказала, что пробуду целый день у Сюзи Адамс; я это, конечно, выдумала, но это не важно. И вот я приехала поездом в Нью-Йорк и встретила на улице мистера… мистера Флиппа и спросила его, как мне найти Дж… Дж…
— Теперь, мисс Лоури, — громко и, как мне показалось, грубо перебил ее Трипп, едва она запнулась, — скажите нравится ли вам этот молодой фермер, этот Хайрэм Додд. Хороший ли он человек, хорошо ли к вам относится?
— Конечно, он мне нравится, — с жаром ответила мисс Лоури, — он очень хороший человек И, конечно, он хорошо ко мне относится. Ко мне все хорошо относятся?
Я был совершенно уверен в этом. Все мужчины всегда будут хорошо относиться к мисс Аде Лоури. Они будут из кожи лезть, соперничать, соревноваться и бороться за счастье держать над ее головой зонтик, нести ее чемодан, поднимать ее носовые платки или угощать ее содовой водой.
— Но вчера вечером, — продолжала мисс Лоури, — я подумала о Дж… о… о Джордже и… и я…
Золотистая головка уткнулась в скрещенные на столе руки. Какой чудесный весенний ливень! Она рыдала безудержно. Мне очень хотелось ее утешить. Но ведь я — не Джордж. Я порадовался, что я и не Додд… но и пожалел об этом.
Вскоре ливень прекратился. Она подняла голову, бодрая и чуть улыбающаяся. О! Из нее, несомненно, выйдет очаровательная жена — слезы только усиливают блеск и нежность ее глаз. Она сунула в рот леденец и стала рассказывать дальше.
— Я понимаю, что я ужасная деревенщина! — говорила она между вздохами и всхлипываниями. — Но что же мне делать? Джордж и я… мы любили друг друга с того времени, когда ему было восемь лет, а мне пять. Когда ему исполнилось девятнадцать, — это было четыре года тому назад, — он уехал в Нью-Йорк. Он сказал, что станет полисменом, или президентом железнодорожной компании, или еще чем-нибудь таким, а потом приедет за мной. Но он словно в воду канул… А я… я очень любила его.
Новый поток слез был, казалось, неизбежен, но Трипп бросился к шлюзам и вовремя запер их. Я отлично понимал его злодейскую игру. Во имя своих гнусных, корыстных целей он старался во что бы то ни стало создать газетный рассказ.
— Продолжайте, мистер Чалмерс, — сказал он. — Объясните даме, как ей следует поступить. Я так и говорил ей, — вы мастер на такие дела. Валяйте!
Я кашлянул и попытался заглушить свое раздражение против Триппа. Я понял, в чем мой долг. Меня хитро заманили в ловушку, и теперь я крепко в ней сидел. В сущности говоря, то, чего хотел Трипп, было вполне справедливо. Девушку нужно вернуть обратно сегодня же. Ее необходимо убедить, успокоить, научить, снабдить билетом и отправить без промедления. Я ненавидел Додда Хайрэма и презирал Джорджа, но долг есть долг. Мое дело — быть оракулом и вдобавок оплатить проезд. И вот, я заговорил так убедительно, как только мог.
— Мисс Лоури, жизнь — достаточно сложная штука. Произнося эти слова, я невольно уловил в них что-то очень знакомое, но понадеялся, что мисс Лоури не слышала этой модной песенки. — Мы редко вступаем в брак с предметом нашей первой любви. Наши ранние увлечения, озаренные волшебным блеском юности, слишком воздушны, чтобы осуществиться. — Последние слова прозвучали банально и пошловато, но я все-таки продолжал. — Эти наши заветные мечты, пусть смутные и несбыточные, бросают чудный отблеск на всю нашу последующую жизнь. Но ведь жизнь — это не только мечты и грезы, это действительность. Нельзя жить одними воспоминаниями. И вот мне хочется спросить вас, мисс Лоури, как вы думаете, могли ли бы вы построить счастливую… то есть согласную, гармоничную жизнь с мистером… мистером Доддом, если во всем остальном, кроме романтических воспоминаний, он человек, так сказать, подходящий?
— О, Хайрэм очень славный, — ответила мисс Лоури. Конечно, мы бы с ним прекрасно ладили. Он обещал мне автомобиль и моторную лодку. Но почему-то теперь, когда подошло время свадьбы, я ничего не могу с собой поделать… я все время думаю о Джордже. С ним, наверно, что-нибудь случилось, иначе он написал бы мне. В день его отъезда мы взяли молоток и зубило и разбили пополам десятицентовую монету. Я взяла одну половинку, а он — другую, и мы обещали быть верными друг другу и хранить их, пока не встретимся снова. Я храню свою половинку в коробочке с кольцами, в верхнем ящике комода. Глупо было, конечно, приехать сюда искать его. Я никогда не думала, что это такой большой город.
Здесь Трипп перебил ее своим отрывистым скрипучим смехом. Он все еще старался состряпать какую-нибудь драму или рассказик, чтобы выцарапать вожделенный доллар.
— Эти деревенские парни о многом забывают, как только приедут в город и кой-чему здесь научатся. Скорее всего ваш Джордж свихнулся или его зацапала другая девушка, а может быть, сгубило пьянство или скачки. Послушайтесь мистера Чалмерса, отправляйтесь домой, и все будет хорошо.
Стрелка часов приближалась к полудню; пора было действовать. Свирепо поглядывая на Триппа, я мягко и разумно стал уговаривать мисс Лоури немедленно возвратиться домой. Я убедил ее, что для ее будущего счастья отнюдь не представляется необходимым рассказывать своему жениху о чудесах Нью-Йорка, да и вообще о поездке в огромный город, поглотивший незадачливого Джорджа.
Она сказала, что оставила свою лошадь, привязанной к дереву у железнодорожной станции. Мы с Триппом посоветовали ей, как только она вернется на станцию, скакать домой как можно быстрее. Дома она должна подробно рассказать, как интересно она провела день у Сюзи Адамс. С Сюзи можно сговориться, — я уверен в этом, — и все будет хорошо.
И тут я, не будучи неуязвим для ядовитых стрел красоты, сам начал увлекаться этим приключением. Мы втроем поспешили к парому; там я узнал, что обратный билет до Гринбурга стоит всего один доллар восемьдесят центов. Я купил билет, а за двадцать центов — ярко-красную розу для мисс Лоури. Мы посадили ее на паром, я смотрели, как она махала нам платочком, пока белый лоскуток не исчез вдали. А затем мы с Триппом спустились с облаков на сухую, бесплодную землю, осененную унылой тенью неприглядной действительности.
Чары красоты и романтики рассеялись. Я неприязненно посмотрел на Триппа: он показался мне еще более измученным, пришибленным, опустившимся, чем обычно. Я нащупал в кармане оставшиеся там два серебряных доллара и презрительно прищурился. Трипп попытался слабо защищаться.
— Неужели же вы не можете сделать из этого рассказ? -хрипло спросил он. — Хоть какой ни на есть, ведь что-нибудь вы можете присочинить от себя?
— Ни одной строчки! — отрезал я. — Воображаю, как взглянул бы на меня наш редактор, если бы я попытался всучить ему такую ерунду. Но девушку мы выручили, будем утешаться хоть этим.
— Мне очень жаль, — едва слышно сказал Трипп, — мне очень жаль, что вы потратили так много денег. Мне казалось, что это прямо-таки находка, что из этого можно сделать замечательный рассказ, понимаете, — рассказ, который имел бы бешеный успех.
— Забудем об этом, — сказал я, делая над собой похвальное усилие, чтобы казаться беспечным, — сядем в трамвай и поедем в редакцию.
Я приготовился дать отпор его невысказанному, но ясно ощутимому желанию. Нет! Ему не удастся вырвать, выклянчить, выжать из меня этот доллар. Довольно я валял дурака!
Дрожащими пальцами Трипп расстегнул свой выцветший лоснящийся пиджак и достал из глубокого, похожего на пещеру кармана нечто, бывшее когда-то носовым платком. На жилете у него блеснула дешевая цепочка накладного серебра, а на цепочке болтался брелок. Я протянул руку и с любопытством его потрогал. Это была половина серебряной десятицентовой монеты, разрубленной зубилом.
— Что?! — спросил я, в упор глядя на Триппа.
— Да, да, — ответил он глухо, — Джордж Браун, он же Трипп. А что толку?
Хотел бы я знать, кто, кроме женского общества трезвости, осудит меня за то, что я тотчас вынул из кармана доллар и без колебания протянул его Триппу.
Трест, который лопнул
Джефф Питерс как персональный магнит
Развлечения современной деревни
Кафедра филантроматематики
Рука, которая терзает весь мир
Супружество как точная наука
Летний маскарад
Стриженый волк
Простаки с Бродвея
Совесть в искусстве
Кто выше?
Стихший ветер
Заложники Момуса
Поросячья этика В книгу вошли рассказы известного американского писателя О. Генри, признанного мастера новелл с неожиданными развязками. В его историях неиссякаемое остроумие сочетается с тонкой наблюдательностью и любовью к людям. Герои благородны и романтичны, изобретательны и находчивы, оптимистичны и жизнелюбивы и находят выход из любой ситуации! В сборник вошли рассказы:
Ищейки
Чародейные хлебцы
Гордость городов
Налёт на поезд
Улисс и собачник
Апологет погоды
Призрак возможности
Дверь, не знающая покоя
Коварство Харгрейвза
Позвольте проверить ваш пульс
Методы Шемрока Джолнса
Табак
День, который мы празднуем
В данный сборник включены только те рассказы, переводы которых отличаются от переводов в сборнике "Шестёрки-семёрки".
О.Генри - выдающийся американский новеллист. Его произведения привлекают читателя блестящим юмором и неожиданной развязкой. О. Генри называют Великим Утешителем - в его произведениях всегда появляется тот, кто готов прийти на помощь отчаявшимся и погибающим, чтобы обеспечить реалистическому рассказу неожиданную развязку. В книгу вошли новые переводы известных рассказов. В сборник вошли рассказы:Горящий светильник
Шехерезада с Мэдисон-сквера
Из Омара
Маятник
Во имя традиции
Рыцарь удачи
Закупщик из Кактус-сити
Бляха полицейского О’Руна
Квартал "Кирпичная пыль"
Рождение ньюйоркца
Русские соболя
Социальный треугольник
Алое платье
Иностранная политика 99-й пожарной команды
Утерянный рецепт
Гарлемская трагедия
Чья вина?
У каждого свой светофор В сборник вошли рассказы:
Деловые люди
Золото, которое блеснуло
Младенцы в джунглях
День воскресения
Пятое колесо
Поэт и поселянин
Ряса
Женщина и жульничество
Комфорт
Неизвестная величина
Театр - это мир
Блуждания без памяти
Муниципальный отчёт
Психея и небоскрёб
Багдадская птица
С праздником!
Новая сказка из "Тысячи и одной ночи"
Сила привычки
Теория и практика В сборник вошли рассказы:
Дороги судьбы
Хранитель рыцарской чести
Плюшевый котёнок
Волшебный профиль
"Среди текста"
Искусство и ковбойский конь
Феба
Гнусный обманщик
Исчезновение чёрного орла
Превращение Джимми Валентайна
"Сherchez la femme"
Друзья из Сан-Розарио
Четвёртое июля в Сальвадоре
Эмансипация Билли
Волшебный поцелуй
Случай из департаментской практики В сборник вошли рассказы:
Ночной бродяга
Меццо-тинто
Беспутный ювелир
Как Вилли спас отца
Мираж на холодной реке
Трагедия
Достаточно вызывающая провокация
Сломанная тростинка
Волосы Падеревского
Тайна многих веков
Странный случай
Субботний вечер Симмонса
Неизвестный роман
Джек - победитель великанов
Фляжка ёмкостью в пинту
Странный тип
Хаустонский роман
Легенда Сан-Хасинто В сборник вошли рассказы:
Дверь и мир
Теория и собака
Гипотетический казус
Шифр Кэллоуэя
Вопрос высоты над уровнем моря
"Девушка"
Костюм и шляпа в свете социологии
Вождь краснокожих
Брачный месяц май
Формальная ошибка
Так живут люди
Коловращение жизни
Жертва невпопад
Дороги, которые мы выбираем
Сделка
Оперетка и квартальный
Фальшивый доллар
Сила печатного слова
Громила и томми Новеллы О. Генри (настоящее имя Уильям Сидней Портер, 1862-1910) на протяжении вот уже ста лет привлекают читателя добрым юмором, оптимизмом, любовью к "маленькому американцу", вызывая интерес и сочувствие к жизненным перипетиям клерков, продавщиц, бродяг, безвестных художников, поэтов, актрис, ковбоев, мелких авантюристов, фермеров.
Лет десять назад, в Петербурге, я встретился с одним американцем. Разговор не клеился, гости собрались уходить, но случайно я упомянул имя О. Генри. Американец заулыбался, пригласил меня к себе и, знакомя со своими друзьями, каждому из них говорил:
— Вот человек, который любит О. Генри.
И те начинали улыбаться мне дружески. Это имя было талисманом. Одна русская дама спросила хозяина: «Кто этот О. Генри? Ваш родственник?» Все засмеялись, но, в сущности, дама была права: О. Генри, и вправду, для каждого американца — родственник. Других писателей любят иначе, прохладнее, а к этому у них отношение домашнее. Называя его имя, улыбаются. Его биограф, профессор Альфонзо Смит, говорит, что О. Генри привлек к себе и консерваторов, и крайних радикалов, и служанок, и светских барынь, и книжников, и деловых людей. Нет сомнения, что через несколько лет он и у нас в России будет одним из самых любимых писателей.
Подлинное имя О. Генри было Вильям Сидней Портер. Этого долго не знали даже его почитатели. Он был скрытен и не любил популярности. Кто-то написал ему письмо: «Ответьте, пожалуйста, — мужчина вы или женщина». Но письмо осталось без ответа. Напрасно издатели газет и журналов просили у О. Генри разрешения напечатать его портрет. Он отказывал всем наотрез, говоря: «Для чего же я и выдумал себе псевдоним, как не для того, чтобы спрятаться». Никогда никому не рассказывал он своей биографии, — даже ближайшим друзьям. Репортеры не имели к нему доступа и принуждены были выдумывать о нем небылицы.
Он никогда не бывал ни в светских, ни в литературных салонах и предпочитал бродить из трактира в трактир, заговаривая с первыми встречными, не знавшими, что он знаменитый писатель. Чтобы сохранить свое инкогнито, он усвоил себе простонародную речь и, если хотел, производил впечатление неграмотного. Любил выпить. Лучше всего чувствовал себя в компании рабочих: с ними он и пел, и пил, и танцевал, и насвистывал, так что те принимали его за фабричного и спрашивали, на каком заводе он работает. Писателем он сделался поздно, славу узнал только на сорок пятом году своей жизни. Доброты он был необычайной: раздавал все, что имел, и, сколько бы ни зарабатывал, постоянно нуждался. По своему отношению к деньгам он был похож на нашего Глеба Успенского: ни копить их, ни считать не умел. Однажды в Нью-Йорке он стоял на улице и разговаривал со своим знакомым. К нему подошел нищий. Он вынул из кармана монету и сердито сунул в руку нищему: «Уходите, не мешайте, вот вам доллар». Нищий ушел, но через минуту вернулся: «Мистер, вы были так добры ко мне, я не хочу вас обманывать, это не доллар, это двадцать долларов, возьмите назад, вы ошиблись». О. Генри притворился сердитым: «Ступайте, ступайте, я же вам сказал, чтобы вы не приставали ко мне!»
В ресторане он давал лакею на чай вдвое больше, чем стоил обед. Его жена сокрушалась: стоило любому попрошайке прийти к нему и налгать о своих злоключениях, и О. Генри отдавал всё до последнего цента, отдавал брюки, пиджак, а потом провожал до дверей, упрашивая: «Приходите опять». И те приходили опять.
Сверхъестественно наблюдательный, он позволял себе быть по-детски наивным, когда дело касалось нуждающегося.
Был он человек неразговорчивый, от людей держался в отдалении и многим казался суровым. По наружности он был похож на средней руки актера: полный, бритый, невысокого роста, глаза узкие, движения спокойные.
Он родился на юге, в сонном городишке Гринзборо, в штате Северная Каролина, 11 сентября 1862 года. Его отец был доктор — рассеянный, добрый, маленький, смешной человек, с длинной седой бородой. Доктор увлекался изобретением всевозможных машин, из которых ничего не выходило; вечно возился в сарае с каким-нибудь нелепым снарядом, сулившим ему Эдиссонову славу.
Мать Вилли Портера, образованная, веселая женщина, умерла от чахотки через три года после рождения сына. Мальчик учился у тётки, тётка была старая дева, поколачивавшая своих учеников, которые, кажется, стоили розги. Вилли Портер был такой же сорванец, как и прочие. Любимой его забавой было играть в краснокожих. Для этого он выдергивал перья из хвоста у живых индюков, украшал этими перьями голову и с диким визгом мчался за бизонами. Роль бизонов выполняли соседские свиньи. Мальчик с толпою товарищей преследовал несчастных животных, стрелял в них из самодельного лука. Хавроньи визжали, как будто их режут, стрелы глубоко вонзались им в тело, и горе было мальчикам, если владельцы свиней узнавали об этой охоте.
Другой забавой Вилли Портера было ломать те снаряды, которые изобретал его отец. Старик положительно помешался на этих снарядах: он изобретал и перпетуум мобиле, и паровой автомобиль, и аэроплан, и аппарат для механической стирки белья — забросил практику и почти не выходил из сарая.
Однажды Вилли убежал с товарищем из дому, чтобы поступить на китобойное судно (ему тогда было лет десять), но денег у него не хватило, и он должен был вернуться домой зайцем — чуть ли не на крыше вагона.
У Вилли был дядя, провизор, владелец аптекарского магазина. Пятнадцатилетним подростком Вилли поступил к нему на службу и скоро научился изготовлять порошки и пилюли. Но главное, он научился рисовать. Каждую свободную минуту он рисовал карикатуры на своего дядю и его покупателей. Карикатуры были злы и хороши. Все пророчили Вилли славу художника. Аптекарский магазин в захолустье — это не столько магазин, сколько и клуб. Все приходят туда со своими болезнями, вопросами, жалобами. Лучшей школы для будущего беллетриста нельзя и придумать.
Читал Вилли запоем — «Красноглазого пирата», «Лесного дьявола», «Грозу Ямайки», «Джэка Потрошителя», — читал и кашлял, потому что с восемнадцати лет ему стала грозить чахотка. Поэтому он очень обрадовался, когда один из завсегдатаев дядиного клуба, доктор Холл, предложил ему поехать на некоторое время в Техас, для поправления здоровья. У доктора Холла в Техасе жили три сына — великаны, молодцы, силачи. Один из сыновей был судья — знаменитый Ли Холл, которого боялась вся округа; вооруженный с головы до ног, он рыскал день и ночь по дорогам, выслеживая конокрадов и разбойников, которыми тогда кишел Техас. В марте 1882 года Вилли Портер приехал к нему и сделался у него на ферме ковбоем. Он был полу-слуга, полу-гость; работал, как слуга, но был в дружеских отношениях с хозяевами. Шутя научился управляться со стадом, бросать лассо, стричь и купать овец, ходить за лошадьми, стрелять, не сходя с седла. Научился готовить обед и часто стряпал, заменяя кухарку. Дикая жизнь Техаса была изучена им до мелочей, и впоследствии он великолепно использовал это знание в книге «Сердце Запада». Он научился говорить по-испански — не только на том испорченном испанском жаргоне, на котором говорят в Техасе, но на подлинном кастильском наречии.
Тогда же он начал пописывать, но беспощадно уничтожал свои рукописи. Что он писал, неизвестно. Изо всех книг он с наибольшим интересом читал в ту пору не романы и повести, а толковый английский словарь, в роде нашего Даля — лучшее чтение для молодого писателя.
На ферме он пробыл два года. Оттуда уехал в Остин, столицу Техаса, — и прожил там одиннадцать лет. Каких только профессий он ни перепробовал за эти одиннадцать лет! Был и конторщиком на складе табачных изделий, и бухгалтером в конторе по продаже домов, был и певцом во всевозможных церквях, и кассиром в банке, и чертежником у землемера, и актером в небольшом театрике — нигде не выказал особых талантов, ни особого пристрастия к делу, но, сам того не замечая, скопил огромный материал для будущей литературной работы. Литературы тогда он как будто нарочно избегал, предпочитая ей мелкие, незаметные должности. Никакого честолюбия он не имел и всегда любил оставаться в тени.
В 1887 году он женился на молоденькой девушке, которую тайно увез от родителей, — и вскоре стал писать для газет и журналов. Но писания его были мелкие — обычный газетный хлам. В 1894 году он сделался редактором местной юмористической газетки «Катящийся Камень», для которой поставлял рисунки, статейки, стишки, решительно ничем не замечательные. Газетка скоро зачахла.
В 1895 году он переехал в другой городок — Гаустон, где редактировал «Ежедневную Почту», и все шло хорошо, он выбивался на литературную дорогу, — вдруг над ним разразилась гроза.
Из Остина пришла судебная повестка. Вильяма Портера вызывали в суд по обвинению в присвоении денег. Судебное следствие установило, что, когда он был кассиром Первого Национального Банка, он в разное время присвоил себе больше тысячи долларов.
Все знавшие его считали это обвинение судебной ошибкой. Были уверены, что, представ перед судом, он в полчаса докажет свою невинность. Велико было изумление всех, когда оказалось, что обвиняемый скрылся. Не доезжая до города Остина, он пересел в другой поезд и ночью умчался на юг, в Новый Орлеан, оставив в Остине дочь и жену.
Почему он убежал, мы не знаем. Его биограф утверждает, что он был невиновен, а убежал потому, что хотел уберечь доброе имя жены. Если так, то ему — напротив — надлежало остаться и доказать на суде свою невиновность. Жене не пришлось бы вынести столько позора и горя. Очевидно, у него были причины бояться суда. Биограф рассказывает, что во всем была виновата администрация банка: отчетность велась халатно, заправилы сами брали из кассы то двести, то триста долларов, не занося этого в конторские книги. В книгах был чудовищный хаос; кассир, который до Портера служил в этом банке, так запутался, что хотел застрелиться. Немудрено, что и Портер запутался. Кто знает: может быть, пользуясь доступностью денег, он сам раза два или три позаимствовал из кассы сотню-другую долларов, с искренней уверенностью, что оп положит эти доллары в ближайшие дни обратно. Биограф уверяет, что он был абсолютно невинен, но зачем же он тогда бежал?
Из Нового Орлеана он пробрался на грузовом пароходе в Гондурас и, выйдя на пристань, почувствовал себя в безопасности. Вскоре он увидел, что к пристани подходит другой пароход и оттуда стрелой выбегает какой-то очень странный мужчина в изодранном фраке и помятом цилиндре. Одежда бальная, для корабля непригодная. Видно было, что мужчина угодил на пароход второпях, не успев переодеться, прямо из театра или с бала.
— Что заставило вас так поспешно уехать? — спросил у него убежавший кассир.
— То же, что и вас, — ответил тот.
Оказалось, что господин во фраке — Ал. Джэннингс, знаменитый преступник, глава шайки поездных воров, которые своими дерзкими кражами терроризировали весь юго-запад. Полиция выследила его, он вынужден был так быстро бежать из Техаса, что ему даже не удалось переодеться. Вместе с ним был его брат, тоже вор, тоже в цилиндре и во фраке. Вильям Портер примкнул к беглецам, и они втроем стали кружить по Южной Америке. Вот когда ему пригодилось знание испанского языка. Деньги у них вышли, они падали с ног от голода. Джэннингс предложил ограбить немецкий банк, дело верное, добыча поровну.
— Хотите работать с нами? — спросил он у Вильяма Портера.
— Нет, не очень, — ответил тот печально и вежливо.
Эти вынужденные скитания по Южной Америке пригодились Портеру впоследствии. Если бы он не бежал от суда, у нас не было бы романа «Короли и капуста», где сказалось близкое знакомство с бананными республиками Латинской Америки.
В это время его жена сидела в городе Остине, без денег, с маленькой дочкой, больная. Он звал ее к себе в республику Гондурас, но она была очень больна и не могла пуститься в такую дорогу. Она вышила какой-то платок, продала его и, купив на первые же вырученные деньги для беглого мужа флакончик духов, послала ему в изгнание. Он и не подозревал, что она тяжко больна. Но когда ему сообщили об этом, он решил отдать себя в руки судебных властей, пойти в тюрьму, лишь бы повидаться с женой. Так он и сделал. В феврале 1898 года он вернулся в Остин. Его судили, признали виновным — причем на суде он молчал, не сказал ни звука в свое оправдание, — и приговорили к пятилетнему заключению в тюрьме. То, что он находился в бегах, только усугубляло вину. Его заключили под стражу и послали в штат Огайо, в город Коломбос, в исправительную каторжную тюрьму. Порядки в этой тюрьме были страшные. В одном из своих писем Вильям Портер писал:
«Я никогда не думал, что человеческая жизнь такая дешевая вещь. На людей смотрят как на животных без души и без чувств. Рабочий день здесь тринадцать часов, и кто не выполнит урока, того бьют. Вынести работу может только силач, для большинства же это верная смерть. Если человек свалился и не может работать, его уносят в погреб и направляют в него такую сильную струю воды, что он теряет сознание. Тогда доктор приводит его в чувство, и несчастного подвешивают за руки к потолку, он висит на этой дыбе часа два. Его ноги почти не касаются земли. После этого его снова гонят на работу и если он падает, его кладут на носилки и несут в лазарет, где он волен или умереть или выздороветь. Чахотка здесь обычная вещь, — все равно, что насморк у вас. Дважды в день больные являются в госпиталь — от двухсот до трехсот человек. Они выстраиваются в очередь и проходят мимо доктора, не останавливаясь. Он прописывает лекарство — на ходу, на бегу — одному за другим, и та же очередь продвигается к тюремной аптеке. Там таким же манером, не останавливаясь — на ходу, на бегу — больные получают лекарство.
Я пробовал примириться с тюрьмой, но нет, не могу. Что привязывает меня к этой жизни? Я способен вынести какие угодно страдания на воле, но эту жизнь я больше не желаю влачить. Чем скорее я ее кончу, тем будет лучше и для меня, и для всех».
То был, кажется, единственный случай, когда этот сильный и скрытный человек выразил вслух свои чувства, пожаловался на свою боль.
Когда в тюрьме спросили, чем он занимался на воле, он ответил, что был репортером. В репортерах тюрьма не нуждалась. Но потом он спохватился и прибавил, что кроме того он фармацевт. Это спасло его; его поместили при госпитале, и скоро он обнаружил такие таланты, что и доктора, и больные стали относиться к нему с уважением. Работал он все ночи напролет, приготовляя лекарства, посещая больных, помогая тюремным врачам, и это дало ему возможность познакомиться почти со всеми арестантами и собрать огромный материал для своих будущих книг. Многие преступники рассказывали ему свою биографию.
Вообще жизнь как будто специально заботилась, чтобы приготовить из него беллетриста. Если бы он не был в тюрьме, он не написал бы одной из своих лучших книг «Рассказы жулика» (The Gentle Grafter).
Но не дешево досталось ему его знание жизни. В тюрьме его особенно мучили не свои, а чужие мучения. С омерзением описывает он жестокий режим американской тюрьмы:
«Самоубийства у нас такая же заурядная вещь, как у вас пикники. Почти каждую ночь нас с доктором вызывают в какую-нибудь камеру, где тот или иной арестант попытался покончить с собой. Этот перерезал себе горло, этот повесился, тот отравился газом. Они хорошо обдумывают такие предприятия и потому почти не терпят неудачи. Вчера один атлет, специалист по боксу, внезапно сошел с ума; конечно, послали за нами, за доктором и за мною. Атлет был так хорошо тренирован, что потребовалось восемь человек, чтобы связать его».
Эти ужасы, которые он наблюдал изо дня в день, мучительно волновали его. Но он крепился, не жаловался и порою умудрялся посылать из тюрьмы веселые и легкомысленные письма. Эти письма были предназначены для его маленькой дочери, которая не должна была знать, что ее папа — в тюрьме. Поэтому он принимал все меры, чтобы его письма к ней не носили мрачного характера:
«Алло, Маргарэт! — писал он. — Помнишь ли ты меня? Я Мурзилка, и меня зовут Алдибиронтифостифорникофокос. Если ты увидишь на небе звезду и прежде, чем она закатится, успеешь повторить мое имя семнадцать раз, ты найдешь колечко с алмазом в первом же следке голубой коровы. Корова будет шагать по снегу — после метели, — а кругом зацветут пунцовые розы на помидорных кустах. Ну, прощай, мне пора уезжать. Я езжу верхом на кузнечике».
Но как он ни старался казаться беззаботным, в этих письмах часто проскальзывали тоска и тревога.
В тюрьме он неожиданно встретился со своим старым знакомым, железнодорожным грабителем Ал. Джэннингсом. Здесь они еще ближе сошлись, и Джэннингс, под влиянием Портера, сделался другим человеком. Он забросил свою профессию и тоже пошел по литературной дороге. Недавно он обнародовал свои тюремные воспоминания об О. Генри, целую книгу, где описал весьма проникновенно, какие нравственные муки испытывал О. Генри в тюрьме. О тюремных порядках Ал. Джэннингс вспоминает с яростью. Вся критика единодушно признала, что этот вор — превосходный писатель, что его книга не только любопытный человеческий документ, но и превосходное произведение искусства. Между прочим, Ал. Джэннингс рассказывает, что в тюрьме был замечательный взломщик несгораемых касс, художник своего дела, который так гениально вскрывал любую запертую железную кассу, что казался чудотворцем, волшебником, неземным существом. Этот великий художник томился в тюрьме, — таял, как свеча, тоскуя по своему любимому делу. И вдруг к нему пришли и сказали, что где-то в каком-то банке есть касса, которую не в состоянии открыть даже судебные власти. Ее нужно открыть, ключей нет, и прокурор решил вызвать из тюрьмы гениального арестанта, чтобы тот оказал помощь судебным властям. И ему обещали свободу, если он откроет эту кассу. Можно себе представить, как вдохновенно и страстно накинулся на кассу талантливый взломщик, с каким упоением сокрушал он ее железные стены, но едва только он открыл ее — неблагодарные власти забыли о своем обещании и погнали его обратно в тюрьму. Несчастный не вынес этого издевательства, окончательно свалился и зачах.
Портер впоследствии изобразил этот эпизод в своем знаменитом рассказе «А Retrieved Reformation», но, как известно, изменил конец. Тюремные власти в рассказе добрее, чем они были на деле.
Его освободили раньше срока, за хорошее поведение в тюрьме. Хорошее поведение главным образом заключалось в том, что, будучи тюремным аптекарем, он не воровал казенного спирта, — добродетель небывалая в летописи тюремных аптек.
Выйдя из тюрьмы, он впервые в жизни серьезно принялся за писательство. Уже в тюрьме он набросал кое-что, а теперь взялся за работу вплотную. Раньше всего он присвоил себе псевдоним О. Генри (имя французского фармацевта Анри), под которым наглухо укрылся от всех. Он избегал встречи с прежними своими знакомыми, никто и не догадывался, что под псевдонимом О. Генри скрывается бывший каторжник. Весною 1902 года он впервые приехал в Нью-Йорк. Ему шел сорок первый год. До сих пор он жил только в провинции на юге, в сонных и наивных городишках, и столица очаровала его. Дни и ночи бродил он по улицам, ненасытно впитывая в себя жизнь великого города. Он влюбился в Нью-Йорк, стал поэтом Нью-Йорка, изучил в нем каждый уголок. И миллионеры, и художники, и лавочники, и рабочие, и городовые, и кокотки — всех он узнал, изучил, и занес к себе на страницы. Литературная его производительность была колоссальна. В год он писал около полусотни рассказов — лаконических, четких, до предела насыщенных образами. Его рассказы из недели в неделю появлялись в газете «World» — и были встречены с большим энтузиазмом. В Америке не было еще писателя, который довел бы до такого совершенства технику короткого рассказа. Каждый рассказ О. Генри 300 — 400 строк, и в каждом огромная, сложная повесть, — множество великолепно-очерченных лиц и почти всегда оригинальный, затейливый, замысловатый сюжет. Критики стали называть его «американским Киплингом», «американским Мопассаном», «американским Гоголем», «американским Чеховым». Слава его росла с каждым рассказом. В 1904 году он собрал свои рассказы, изображающие Южную Америку, в один томик, связал их на скорую руку забавным сюжетом — и напечатал под видом романа «Короли и капуста». Это была его первая книга. В ней много водевильного, нарочито-подстроенного, — но в ней есть и южные горы, и южное солнце, и южное море, и подлинная беззаботность пляшущего, поющего юга. Книга имела успех. В 1906 году появилась вторая книга О. Генри «Четыре миллиона», вся посвященная его Нью-Йорку. Книга открывается замечательным предисловием, которое стало теперь знаменитым. Дело в том, что в Нью-Йорке есть своя аристократия, — денежная, — живущая очень замкнутой жизнью. Проникнуть в ее круг простому смертному почти невозможно. Она малочисленна, не больше четырехсот человек, и все газеты пресмыкаются перед нею. Это не понравилось О. Генри, и он написал:
«Недавно кто-то вздумал утверждать, будто в городе Нью-Йорке имеется всего четыреста человек, достойных внимания. Но потом явился другой, поумнее — составитель переписи — и доказал, что таких людей не четыреста, а значительно больше: четыре миллиона. Нам кажется, что он прав, и потому мы предпочитаем назвать наши рассказы «Четыре миллиона».
В Нью-Йорке было тогда четыре миллиона жителей, и все эти четыре миллиона показались О. Генри одинаково достойными внимания. Он поэт четырех миллионов; то есть всей американской демократии. После этой книги О. Генри стал знаменит на всю Америку. В 1907 году он напечатал две книги рассказов: «Приправленная лампа» и «Сердце Запада»; в 1908 году тоже две — «Голос города» и «Деликатный Жулик»; в 1909 году опять-таки две — «Дороги Рока» и «Привилегии», в 1910 году снова две — «Исключительно по делу» и «Водовороты». Писание коротких рассказов не удовлетворяло его, он замыслил большой роман. Он говорил: «Все, что я писал до сих пор, это просто баловство, проба пера, по сравнению с тем, что я напишу через год». Но через год ему не довелось ничего написать: он переутомился, стал страдать бессонницей, уехал на юг, не поправился, и вернулся в Нью-Йорк совершенно разбитый. Его отвезли в Поликлинику на Тридцать Четвертую улицу. Он знал, что едет умирать, и с улыбкой говорил об этом. В клинике он шутил, лежал в полном сознании — ясный и радостный. Утром в воскресенье он сказал: «Зажгите огонь, я не намерен умирать в темноте», и через минуту скончался — 5 июня 1910 года.
Характеристика О. Генри, как писателя, будет дана в ближайших номерах «Современного Запада», когда русский читатель ближе познакомится с его произведениями.
К. Чуковский
1 О. Henry Biography, by Alphonso Smith, Рое Professor of English in the University of Virginia Garden City, N.-Y., and Toronto.