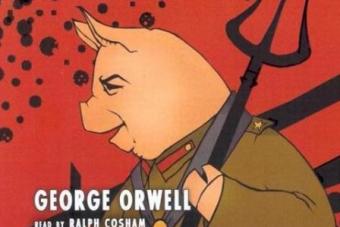1816 год был переломным в жизни Карамзина. К его началу на письменном столе историографа лежали восемь аккуратно переписанных томов "Истории государства Российского" - итог многолетних неустанных трудов в подмосковном Остафьеве и в снимаемой на зимнее время московской квартире. Синие, исписанные каллиграфическим почерком листы бумаги невольно притягивали взгляд, порождали с трудом сдерживаемое желание еще и еще (в который раз!) хотя бы бегло просмотреть написанное, исправить, дополнить. Позади были трудные дни начала работы, во имя которой известный писатель и публицист оставил привычные для его почитателей дела: издание популярного журнала "Вестник Европы", создание повестей и романов. 12 лет Карамзин был отдан работе над "Историей", работе, в успехе которой его пока убеждали только друзья. Преодолевая семейные невзгоды, он шаг за шагом продвигался с завидным упорством к завершению задуманного. Годы смутных тревог за судьбы родины, а затем время реальной, прочувствованной и увиденной воочию опасности потери её национальной независимости уходили прочь, но они снова и снова, часто "забирая" его из прошлого, заставляли с новой силой размышлять над удивительными поворотами современной истории.
Впереди мерцал луч надежды. Европа устало освобождалась от страха перед казавшимся непобедимым Наполеоном. Венский конгресс 1815 г., вновь породивший было тревогу за европейское спокойствие, завершился "Священным союзом" против народов европейских монархов, обязавшихся не допустить больше событий, подобных французской революции. Сопровождаемый потоком восхвалений, с ореолом "монарха-преобразователя", пекущегося о "благе подданных", в Россию с Венского конгресса возвратился Александр I, торжественно благодаря "все сословия" за мужество и пожертвования в прошедшей войне, обещая "благоденствие" подданным, мир и спокойствие государству. Сожженная, неустроенная Москва, встретившая Карамзина осенью 1813 г. после пребывания в эвакуации в Нижнем Новгороде холодным безмолвием улиц и площадей, постепенно отстраивалась в стиле все того же милого его сердцу и духу простора и беспорядка. Вновь открыл двери Английский клуб, вновь зазвучала музыка в салонах московской и петербургской знати, восторженно встречавшей покрытых пылью европейских дорог участников заграничных походов, лучшие из которых уже начинали думать и говорить о необходимости решительных изменений в жизни страны. Историограф хотел верить в то, что будущее недавнего какого-нибудь 20 - 30-летнего прошлого навсегда осталось на острове святой Елены, а над миром вместо революций засверкает звезда просвещения, порядка и мудрого политического "благоразумия".
Настроения Карамзина накануне решительного поворота в его жизни рисует стихотворение "Освобождение Европы и слава Александра I" - одно из немногих стихотворных произведений, написанных в период работы над "Историей", и фактически последнее, наиболее значительное в этом жанре в его творчестве 1 . Если отбросить патетику, диктуемую законами жанра, и условности как дань требованиям времени, идеи этого стихотворения можно свести к следующему.
1 (Сочинения Карамзина. Пг., 1917. Т. 1. С. 305 - 318. )
"Порядок и закон", царившие в жизни Европы, были нарушены Наполеоном, плодом "отчаянной свободы", порождением французской революции. Человек с необузданным честолюбием, он узурпировал самодержавную власть, стал тираном, "державным палачом", провозгласив основой своей политики насилие и отказ от какой-либо законности. В представлении Карамзина в век Просвещения, когда всем ясно, что самодержец "отцом людей обязан быть, любить не власть, а добродетель", деятельность Наполеона дискредитировала не идею самодержавной власти, носителем которой как французский император он являлся, а лишь его как человека, недостойного быть на троне.
Поэтому не случайно в стихотворении Наполеону противопоставлен Александр I. Карамзин рисует его как героя, миролюбивого правителя, оберегающего мудрой политикой Россию от войн, прислушивающегося к советам "прозорливых". Нетрудно заметить, что восторженная характеристика русского императора и его политики была далека от того, что писал Карамзин в своей конфиденциальной "Записке о древней и новой России", представленной Александру I в 1811 г. Наполеону фактически историк противопоставил образ идеального монарха - государственного деятеля и человека, черты которого он старательно создавал и в "Историческом похвальном слове" Екатерине II и в "Истории". О таком монархе говорит "мудрость веков" - муза истории Клио. Он в представлении Карамзина не должен обольщаться славой, хранить мир,
Судить, давать, блюсти законы, С мечом в руке - для обороны От чуждых и своих врагов,
любить просвещение, быть справедливым, помнить, что "в правленьях новое опасно" и т. д.
Отечественная война 1812 г. для Карамзина - война народная, породившая "толпы героев и вождей", массовый патриотизм. С большим подъемом он описывает Бородинское сражение и трагическую картину оставления Москвы. В этой части стихотворение приобретает афористичность:
Победами славна Лишь справедливая война. В твоих развалинах найдет Враг мира гроб своих побед. Но кто оковы нам несет, Умрем - или он сам падет
и т. д. Вместе с тем истоки победы над Наполеоном Карамзин видит и в патриархальных нравах русского народа, в складе национального характера, главной особенностью которого являлось то, что, по мнению Карамзина, народ "свободы ложной не искал, но все имел, чего желал". Более того, историографу кажется, что победа над Наполеоном имела еще одну причину. В кутузовском маневре после оставления Москвы, в суровой зиме он видит действие силы провидения, избравшего русский народ для того, чтобы покарать не столько захватчиков, сколько тирана, презревшего человеческие законы. Героизм народа, талант военачальников для Карамзина - всего лишь проявление божественного начала, благосклонного к набиравшему силу молодому государству с патриархальными устоями.
Карамзина волнуют и судьбы Европы в послевоенное время. Стихотворение историографа в этом смысле проникнуто пацифизмом и надеждами на торжество просвещения, идеалов гуманизма. Он приветствует освободительный поход русской армии в Европу, но предупреждает: "Народы - братья! злобы нет". Муза истории обращается к европейским монархам и Александру I, призывая царей "всемирную державу" оставить "богу одному", а народам советует покоряться власти: "Свободой ложной не прельщайтесь: она призрак, страстей обман" 1 .
1 (Там же. С. 308, 316. )
Стихотворение Карамзина носило откровенно антиреволюционную направленность. Признавая народный характер войны 1812 г., историограф, как уже говорилось, склонялся к тому, чтобы одной из причин победы в ней признать волю провидения, непостижимый божественный промысел. Вновь, как и в "Записке о древней и новой России", Карамзин провозглашал свои монархические идеи, соединенные с элементами просветительской идеологии - верой в торжество добра, разума, справедливости.
Но это сочинение Карамзина, написанное по его собственному признанию "в бреду", примечательно и другим. Оно отразило изменение планов историографа. В далеком прошлом прежде он находил богатейший материал для собственного осмысления современности, всегда, прежде всего занимавшей его. И вдруг современность оказалась масштабнее прошлого по трагизму, страстям, борениям и героике. Она на глазах становилась историей, из которой так стремился извлечь "уроки" Карамзин. Ответы на волновавшие вопросы, казалось ему, наглядно можно было получить и на совсем свежем материале. В сентябрьские дни 1812 г., когда запыленная повозка Карамзина в обозе с другими увозила его из горящей Москвы, в эвакуационной сутолоке Нижнего Новгорода у историографа созревал новый замысел: издать написанные тома своего труда и приступить к описанию истории современности с упором на рассказ о борьбе с Наполеоном. К марту 1814 г. Карамзин предпринимает шаги для реализации своего замысла. Он устанавливает письменный контакт с вдовствующей императрицей Марией Федоровной, намереваясь через нее получить личное разрешение Александра I на издание "Истории" и на описание эпохи борьбы с Наполеоном. Почти весь 1814 год Карамзин обсуждал со своей покровительницей планы на этот счет 1 . Увы, им не суждено было осуществиться: "Великое действует и на малое", - заметил Карамзин своей корреспондентше, когда узнал, что Александр I отправился на Венский конгресс.
1 (Подробнее см.: Тартаковский А. Г. У истоков русской историографии 1812 года // История и историки: Историогр. ежегодник, 1978. М., 1981. С. 80 - 81. )
К началу 1816 г., как мы уже отмечали, ситуация изменилась. Император вернулся в Петербург, и Карамзин решил ехать в столицу для встречи с ним. Нам, к сожалению, ничего неизвестно о том, думал ли теперь историограф предложить свои услуги в деле создания истории 1812 г., которая уже начинала активно разрабатываться многими участниками войны, а также на официальной основе - в ряде правительственных учреждений и воинских частей 1 . После 1815 г. вообще отсутствуют какие-либо сведения о новом замысле Карамзина. Бесспорно, однако, одно: если Карамзин и не оставил своих прежних планов, они могли осуществиться только после издания восьми написанных томов "Истории".
1 (Там же. С. 67 - 90. )
А вопрос с их изданием был не так прост. Как известно, указ Александра I 1803 г. лишь назначал Карамзина на должность-звание "историографа Российской империи" с ежегодным трехтысячным "пенсионом", равным профессорскому окладу. Должность-звание историограф - традиционно существовавшая в России и Западной Европе форма организации исторических исследований 1 . В России она получила особо широкое распространение в начале XIX в. как ответ на практическую потребность в исторических знаниях, остро ощущавшуюся в связи с конкретными правительственными мероприятиями в области внутренней и внешней политики. Постепенно сложилась целая система "отраслевых историографов" - специально назначенных лиц, в служебные обязанности которых входили исторические разыскания отраслевого или проблемного характера. Так, в Адмиралтейском департаменте должность историографа русского флота занимали подпоручик Позднев, а затем декабрист Н. А. Бестужев. Историографами русско-турецких войн в разное время были декабристы П. И. Пестель и И. Г. Бурцев, а также военный историк Д. П. Бутурлин, историографом Войска Донского - декабрист В. Д. Сухоруков. В 1816 г. описание событий 1812 - 1815 гг. возлагается на известного военного теоретика А. Жомипи, которому были выделены помощники, в том числе декабрист Н. М. Муравьев 2 .
1 (Киреева Р. А. Изучение отечественной историографии в дореволюционной России с середины XIX в. до 1917 г. М., 1983. С. 79. )
2 (Подробнее см.: Афиани В. Ю., Козлов В. П. От замысла к изданию "Истории государства Российского" // Карамзин Н. М. История государства Российского. М., 1989. Т. 1. )
"Ранг" Карамзина как историографа "империи" был значительно выше. Однако указ о его назначении не сопровождался регламентацией каких-либо обязанностей, что и как писать и к какому сроку. Несмотря на это, тот социальный заказ, который был предложен Карамзину, встретил с его стороны подчеркнуто ответственное отношение. Правда, как опытный литератор, он еще чале работы решил не издавать написанное по отдельным томам. Однако, судя по всему, историограф колебался, с какого тома начать издание. Например, в 1806 г. хорошо информированный И. И. Дмитриев сообщил Д. И. Языкову, что Карамзин намеревается приступить к изданию "Истории" после завершения ее четвертого тома 1 . К началу 1816 г. обстоятельства изменили первоначальный замысел историографа: Карамзин написал большую часть своего труда, на очереди стоял девятый том, посвященный "эпохам казней" Ивана Грозного. Карамзин мог приступить к печатанию, но в таком случае он немедленно попадал под общую цензуру, и не было никакой гарантии, что все написанное беспрепятственно дойдет до читателей. Немаловажную роль играли еще два обстоятельства: отсутствие средств на издание и намерение придать больший авторитет многолетнему труду. Все это в соответствии с существовавшей в России начала XIX в. практикой могло быть разрешено только одним: изданием "Истории" с "высочайшего позволения".
1 (Сочинения Ивана Ивановича Дмитриева. СПб., 1895. Т. 2. С. 205. )
Итак, решение было принято, и в начале февраля 1816 г. Карамзин впервые после двадцатипятилетнего перерыва вместе сопровождавшими его друзьями П. А. Вяземским и поэтом В. Л. Пушкиным прибыли в Петербург. Накануне отъезда, как свидетельствуют источники, историограф не питал особых надежд относительно успешного исхода задуманного. Скорее наоборот, его беспокоила неопределенность положения, в котором он оказался. Не столько годы, сколько эпохальные события отделяли настоящее от тех памятных встреч Карамзина с Александром I в Твери, во время которых избранный круг тверского салона великой княгини Екатерины Павловны с неподдельным восторгом слушал отрывки из "Истории", а сам император читал карамзинскую "Записку о древней и новой России". Тогда, на волне дворянского недовольства внутренней и внешней политикой Александра I, Карамзин решился на резкую критику деятельности императора и его министров. И хотя, очевидно, эта критика сыграла свою роль в последующих действиях Александра I, в частности в решении об отставке и ссылке государственного секретаря М. М. Сперанского, бывшего душой задуманных конституционных преобразований, император, как свидетельствует ряд лиц, близких к Карамзину, остался недоволен этим сочинением историографа 1 . В литературе о Карамзине, в том числе советской, можно даже встретить мнение о последовавшей после "Записки" опале историографа 2 . Трудно судить, насколько это мнение соответствует действительности. Сам факт отсутствия контактов между Карамзиным и Александром I после 1811 г. еще ни о чем не говорит: события развивались столь стремительно, что для встреч просто могло не быть возможности.
1 (Корф М. Жизнь графа Сперанского. СПб., 1861. Т. 1. С. 133. )
2 (Бернов П. Н. Проблемы исторического развития литератур. Л., 1981. С. 254 )
И все же неясность судьбы своего труда Карамзин ощущал. Себя и друзей он пытается убедить в том, что теперь, когда восемь томов "Истории" готовы, их издание требует "последней жертвы" - добиться встречи с Александром I и согласия на издание "Истории" с "высочайшего позволения". Так, во всяком случае, он говорит в письме к графу С. П. Румянцеву, умному скептику, автору нашумевшего, но мало что изменившего в положении крепостных крестьян закона о "вольных хлебопашцах" 1 . Тот же мотив звучит и в письме к давнему другу, директору Московского архива Коллегии иностранных дел А. Ф. Малиновскому: "Если отправлюсь в Петербург, то возьму с собою запас терпения, уничижения, нищеты духа" 2 . И наконец, признание брату, дальнему симбирскому корреспонденту, постоянно и живо интересовавшемуся делами историографа, - признание с несвойственной для Карамзина в родственной переписке откровенностью о своих личных делах: "Знаю, что могу съездить и возвратиться ни с чем. По крайней мере, надобно, кажется, испытать это: уже не время откладывать печатание "Истории", стареюсь и слабею не столько от лет, сколько от грусти" 3 .
1 (Письма Карамзина к графу С. П. Румянцеву // Рус. арх. 1869. № 7. С. 589 - 590. )
2 (Письма Карамзина к Алексею Федоровичу Малиновскому и письма Грибоедова к Степану Николаевичу Бегичеву. М., 1860. С. 6. )
3 (Переписка Н. М. Карамзина с 1799 по 1826 год // Атеней. 1855. Ч. 3. С. 644. )
Петербург встретил Карамзина восторженной суетой молодых литературных поклонников - членов неофициального прогрессивного общественно-литературного объединения "Арзамас" (тотчас избравших своего "патриарха" в состав почетных членов), гостеприимными чаепитиями и обедами в домах давних друзей и хороших знакомых с доверительными беседами о судьбах "Истории", вежливой настороженностью сановитых посетителей салонов столичной знати и официальной любезностью чиновних приемов. Впрочем, пришлось выслушивать и откровенные, далекие от почтительности суждения. "Однако же знай,- однажды вынужден был признаться Карамзин жене, - что нашелся один человек, старый знакомец, который принял весьма холодно и объявил, что ему известен мой образ мыслей, contraire aux idees liberates (противный свободолюбивым мыслям. - В. К. ), то есть образу мыслей Фуше, Карно, Грегуара" 1 . И в то же время иметь в виду, что попечитель Московского университета, его давний недоброжелатель П. И. Голенищев-Кутузов, по слухам, "старался доставить графу Аракчееву записку с новыми доносами" 2 .
1 (Письма Н. М. Карамзина к его супруге из Петербурга в Москву 1816 Р. // Рус. арх. 1911. № 8. С. 569. )
2 (Там же. С. 570, 584. )
Карамзин не делал тайны из своих планов с изданием "Истории". Более того, явно стремясь создать положительную общественную атмосферу вокруг нее, он впервые решился на публичные чтения отрывков. Было, по меньшей мере, восемь таких выступлений: трижды у мецената, известного любителя древностей графа Н. П. Румянцева, дважды - в "Арзамасе", по одному разу у А. И. Тургенева, в салоне графини А. Г. Лавалъ и, наконец, отрывки из восьмого тома в течение более трех часов он читал вдовствующей императрице Марии Федоровне. "Действие удовлетворяло моему самолюбию", - сообщает Карамзин жене, с тревогой в Москве ожидавшей вестей. Не приходится сомневаться в словах историографа. Даже спустя много лет А. С. Стурдза, не утративший настороженного отношения к Карамзину как "либералу"; вспоминал, что во время таких "домашних чтений" "везде сыпались на автора похвалы, которые он принимал без услады и восторга, просто, с неподражаемой добродетелью" 1 .
1 (Стурдза А. Воспоминания о Николае Михайловиче Карамзине // Москвитянин. 1846. Ч. V. С. 147. )
И все же, несмотря на успех таких чтений, главное, чего добивался Карамзин - встречи с императором, откладывалось. Не раз до историографа доходили слухи, что Александр I вот-вот готов принять его, не раз он специально в течение дня не уходил из дома, любезно предоставленного Е. Ф. Муравьевой, женой покойного друга и покровителя М. Н. Муравьева; надежды и ожидания оказывались тщетными. В письмах к Жене Карамзин уже не скрывал своей обиды и, возможно, в расчете на то, что их прочитают уже на Петербургском почтамте, демонстративно говорил, что его "держат здесь бесполезно и почти самым оскорбительным образом" 1 . Все больше познавая петербургскую околодворцовую атмосферу, напоминая себе о "собственном нравственном достоинстве", он уже готовился к возвращению в Москву, где мечтал продолжить работу. "Всем, кто желает меня слушать, говорю, что у меня одна мысль - об отъезде. Меня засыпают розами, но ими душат. Такого образа жизни не могу я долго вести. Я слишком на показе, я слишком говорю", - сообщал Карамзин жене 2 .
1 (Письма Н. М. Карамзина к его супруге... С. 581. )
2 (Там же. С. 582. )
Тем временем появилась, на взгляд многих, приемлемая альтернатива намерениям Карамзина: граф Н. П. Румянцев, широко финансировавший исторические разыскания, в том числе публикации исторических источников и сочинений, предложил историографу в случае отказа Александра I 50 тыс. руб. - сумму, достаточную для издания "Истории", с единственным условием: поставить на книге свой герб. В тяжелые для себя дни Карамзин решил быть последовательным в своих планах, отклонив столь лестное для десятков других исследователей предложение отставного министра и государственного канцлера. Мотив был все тот же: "честь" историографа требует только "высочайшего позволения" на печатание, главное в издании "Истории" не деньги, а официальная санкция императора. В письмах к жене эта мысль сформулирована категорически: "Я рад, что у нас такие бояре, но скорее брошу свою "Историю" в огонь, нежели возьму 50 тысяч от партикулярного человека. Хочу единственно должного и справедливого, а не милостей и подарков" 1 .
1 (Там же. С. 567. )
Обстановку вокруг Карамзина и его труда в это время рисуют воспоминания декабриста Ф. Н. Глинки. Председатель и активный сотрудник Вольного общества любителей российской словесности - одного из легальных преддекабристских объединений, он, познакомившись в Петербурге с историографом, считал своим долгом сообщать ему "взгляды разных партий и значительных единиц" на "Историю". Как пишет Глинка, "об ином Николай Михайлович уже слышал и знал, о другом догадывался, а некоторые вещи были для него еще новы. Уже обе государыни были на стороне Карамзина, многие влиятельные особы стояли за него, но все чего-то недоставало" 1 . "Не доставало", как свидетельствует тот же Глинка и о чем прямо говорили Карамзину его петербургские друзья, рекомендации перед Александром I всесильного временщика графа А. А. Аракчеева. Карамзин и сам прекрасно понимал это: еще накануне своей поездки в Петербург он с горькой иронией констатировал в письме к брату, что в России теперь только Аракчеев - единственный и всемогущий вельможа. Между тем у Аракчеева могли быть основания для неприязни к Карамзину: по некоторым данным 2 , он был знаком с "Запиской о древней и новой России", где карамзинская критика министров Александра I распространялась и на него как военного министра.
1 (Цит. по: Грот К. Я. Н. М. Карамзин и Ф. Н. Глинка. СПб., 1903, С. 6. )
2 (Иконников В. С. Граф Мордвинов. СПб., 1878. С. 106. )
Отправляясь в Петербург, Карамзин в решении волновавших его вопросов уповал на волю провидения. Теперь же у этого провидения оказывалось вполне реальное лицо, представленное одной из самых мрачных фигур царствования Александра I. Нежелание историографа заручиться поддержкой временщика явственно видно в его переписке с друзьями и близкими. Это не было позерством, скорее, продиктовано неким "кодексом чести историографа", которому Карамзин демонстративно старался следовать и в дальнейшем. "Чего же мне ждать?" - спрашивает он в одном из писем к жене. И отвечает, словно бы успокаивая и себя тоже: "Уважения твоего и собственного. Я никого не хочу оскорбить грубостью, но мое ли дело идти криво" 1 . Дальнейшие события оказались примечательными для понимания позиции Карамзина: Аракчеев сам пригласил к себе уже вконец отчаявшегося, но гордого независимостью историографа. Встреча оказалась короткой, но многообещающей: граф заявил, что будет ходатайствовать перед Александром I о приеме Карамзина.
1 (Письма Н. М. Карамзина к его супруге... С. 586. )
16 марта после более чем полуторамесячных хлопот Карамзина принял император. По свидетельству историографа, Александр I был любезен и подчеркнуто, деловит в решении вопроса с изданием "Истории". В тот же день Карамзин был произведен из коллежских советников в статские, пожалован орденом Святой Анны первой степени, получил из императорского кабинета на издание "Истории" 60 тыс. руб. Все это автоматически избавляло его от цензуры. Средства от будущей продажи "Истории" поступали в полное распоряжение автора. Кроме того, на весенние и летние месяцы Карамзину предоставлялся домик в Царском Селе, где находилась одна из резиденций правящей династии. Таков был щедрый жест императора, даже не успевшего ознакомиться в рукописи с трудом Карамзина.
В этом был очевиден политический расчет. Заигрывание с общественным мнением, заявления о внимании к просвещению нередки в царствование Александра I. Пожертвования на дела науки и культуры были призваны демонстрировать заботу императора о делах просвещения, подчиняя их задачам укрепления авторитета самодержавной власти. На средства, выделенные из императорского кабинета, был издан целый ряд книг, в том числе и сыгравших положительную роль в развитии отечественной науки и просвещения. Но на фоне таких пожертвований эпизод с "Историей" выглядел необычно. Следует прислушаться к словам близкого друга Карамзина, бывшего министра юстиции И. И. Дмитриева о том, что "ни один из наших монархов не награждал с таким блеском авторские заслуги и ни один из наших писателей не был отличен столь почестью", хотя, подчеркивает он, Карамзин к этому и не стремился 1 .
1 (Дмитриев И. И, Взгляд на мою жизнь: Записки действительного тайного советника Ивана Ивановича Дмитриева. М., 1866. С. 240. )
Случай с Карамзиным послужил поводом для очередного потока славословий в адрес монарха. (Монаршья благотворительность сыграла политическую роль.) Современникам было наглядно показано, как может самодержец "облагодетельствовать" верноподданного. С неподдельным изумлением об этом неофициально сообщал Карамзину до указа Александра I даже министр внутренних дел О. П. Козодавлев 1 ; вскоре как о сенсационной новости то же писал в Лондон графу С. Р. Воронцову его петербургский корреспондент Н. М. Лонгинов 2 . Впрочем, по позднейшему свидетельству графа Д. Н. Блудова 3 , это щедрое поощрение последовало не за восемь томов "Истории", а за "Записку о древней и новой России", по-прежнему остававшуюся неизвестной широкому кругу современников.
1 (ЦГИА СССР. Ф. 951. Оп. 1. Д. 14. Л. 1. )
2 (Архив князя С. М. Воронцова. М., 1882. Т. 23. С. 362. )
3 (Эйделъман Н. Я. Последний летописец. М., 1983. С. 88. )
Итак, несмотря на медленное продвижение к цели, Карамзин имел в конце концов все основания быть удовлетворенным своей поездкой. В мае 1816 г. он переезжает вместе с семьей в Петербург, намереваясь прожить здесь не более двух лет, в течение которых думает покончить с типографскими хлопотами. Лето проходит в окончательной доводке написанного и в поисках типографии. Последнее оказалось делом нелегким: то не удовлетворяла высокая цена за печатание, то качество набора. Историограф был уже готов махнуть на это рукой и вновь перебраться в Москву, где находилась давно знакомая ему типография С. А. Селивановского, как вдруг Александр I вновь делает широкий жест. По свидетельству Карамзина, он "без моей просьбы" "велел" печатать "Историю" в типографии Военного министерства.
Однако после передачи рукописи в типографию Военного министерства ее набор по распоряжению генерала Л. А. Закревского был приостановлен. Закревский потребовал публичной цензуры рукописи. Сохранилось письмо Карамзина к министру духовных дел и просвещения князю А. Н. Голицыну, отразившее этот любопытный эпизод в истории печатания труда историографа. Карамзин, ссылаясь на высочайшее позволение, а также на то, что академики и профессора не отдают своих сочинений в публичную цензуру, просил помощи императора в освобождении своего труда от "плена в руках татар". Одновременно он заверял в благонамеренности "Истории". Государственный историограф, пишет Карамзин, "должен разуметь, что и как писать; собственная его ответственность не уступает цензорской; надеюсь, что в моей книге нет ничего против веры, государя и нравственности; но, быть может, что цензоры не позволят мне, например, говорить свободно о жестокости царя Ивана Васильевича. В таком случае, что будет история" 1 . Письмо Карамзина возымело надлежащее действие: 23 октября 1816 г. А. П. Голицын сообщил ему, что он "докладывал императору в рассуждении печатания Вашей Российской истории, и его императорское величество высочайше указать соизволили печатать оную без цензуры, каковая высочайшая воля сообщена уже мною кому следовало для исполнения" 2 .
1 (Записка Карамзина к неизвестному лицу // Рус. арх. 1866. № 11/12. С. 1765 - 1766. )
2 (ЦГИА СССР. Ф. 951. Оп. 1. Д. 12. Л. 1. )
Конфликт с типографией Военного министерства был лишь пиком тех "недоразумений", которые продолжались и позже. "Типография, - писал Карамзин И. И. Дмитриеву, - смотрит на меня медведем" 1 . Закревский выделил на издание самую худшую по качеству бумагу. Об этом, как о событии возмутительном, сообщал в Лондон графу С. Р. Воронцову уже упоминавшийся Лонгинов. "Недавно, - писал он, - я присутствовал на последнем урегулировании, сделанном Карамзиным и Закревским по изданию I тома "Истории". Закревский особенно старательно заботился, чтобы выбрать мерзейшего качества бумагу и наиболее черную, на том основании, что она стоит только 13 рублей. Эта скупость меня возмутила" 2 . Вскоре добавились медленный набор и отсутствие достаточного количества шрифта. Печатать "Примечания" пришлось разными шрифтами. Недовольный Карамзин для ускорения издания передал часть томов в две другие типографии: Медицинского департамента и Сената. "Я рад несказанно, - писал в связи с этим эпизодом А. И. Тургеневу В. А. Жуковский, - тому неудовольствию, которое наш арзамасский патриарх имел с типографией: оно разлучило его с нею и передало его "Историю" в верные руки" 3 . У историографа мелькала мысль даже об издании труда без "нот", т. е: без "Примечаний", составлявших более половины объема "Истории" но, по признанию И. И. Дмитриеву, в конце концов он на это не набрался духу. Затруднения с печатанием свидетельствуют о том, что дело с изданием "Истории" было далеко не таким безболезненным, как иногда пытаются представить 4 . В их основе лежали если не политические, то уж, во всяком случае, какие-то личные мотивы недоброжелательного отношения к Карамзину. Для себя после этого Карамзин сделал вывод: "многие ждут моей "Истории", чтобы атаковать меня. Она же печатается без цензуры" 5 .
1 (Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 197. )
2 (Архив князя С. М. Воронцова. Т. 23. С. 375 - 376. )
3 (Письма В. А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу, М., 1895. С. 165. )
4 (Минаева Я. В. Европейский легитимизм и эволюция политических представлений Н. М. Карамзина // История СССР. 1982. № 5. С. 157 - 158. )
5 (Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 206. )
Утомительное чтение одновременно корректур не скольких томов, встречи и споры с молодыми "либералистами" из "Арзамаса", которые, несмотря на кардинальные расхождения с Карамзиным во взглядах на пути развития России и Европы, тянулись к маститому писателю и ученому, светские приемы и посещения - таков образ жизни историографа в последующие годы. Все более тесными становились и контакты с императорской семьей, которые, впрочем, сам Карамзин не был склонен идеализировать.
В сентябре 1817 г. для вдовствующей императрицы Марии Федоровны Карамзин написал "Записку о московских достопамятностях". Этот интересный публицистический документ мало привлекал внимание исследователей. Учитывая ту роль, которую он сыграл в развертывании полемики вокруг "Истории", мы остановимся на нем подробнее.
Вдовствующей императрице, отправлявшейся в Москву с царской семьей на закладку храма в честь победы над Наполеоном, Карамзин советует посетить Кремль, где "среди развалин порядка гражданского возникла мысль спасительного единодержавия..., воспылала ревность государственной независимости..., началось и утвердилось самодержавие" 1 , осмотреть московские архивы и библиотеки, а также Кунцево, села Архангельское и Тайнинское. Историограф напоминает страницы истории этих мест, отмечая неудовлетворительное состояние многих исторических памятников: "гниет и валится" дом А. Л. Нарышкина в Кунцеве, на месте дворца Елизаветы Петровны в Тайнинском "в саду - полынь и крапива, а в прудах - тина" 2 . Он вспоминает, как сам когда-то искал здесь вдохновения для исторических занятий, а недалеко от Симонова монастыря сочинял в далекой молодости "Бедную Лизу" - "сказку весьма незамысловатую, но столь счастливую для молодого автора, что тысячи любопытных ездили и ходили туда искать следов Лизиных" 3 .
1 ([Карамзин Н. М.], Записка о достопамятностях Москвы // Укр. вестн. 1818. Ч. 10. С. 132 (в тексте - название Записки", данное Карамзиным). )
2 (Там же. С. 246, 249; и др. )
3 (Там же. С. 142. )
Много внимания в этой "Записке" Карамзин уделяет современному состоянию Москвы. Он отмечает "развалины", в которых находится Московский университет, когда-то, по его мнению, бывший для России "полезнее Санкт-Петербургской Академии". Решительное осуждение вызывает у него задуманное по проекту архитектора Витберга строительство на Воробьевых горах храма в честь победы в 1812 г. "Ныне, - пишет он, - как слышно, хотят там строить огромную церковь. Жаль! Она не будет любоваться прелестным видом и покажется менее великолепною в его (города. - В. К. ) великолепии. Город, а не природа украшается богатою церковью. Однажды или два раза в год народ пойдет молиться в сей новый храм, имея гораздо более усердия к древним церквам. Летом уединение, зимой уединение и сугробы снега вокруг портиков и колонад: это печально для здания пышного" 1 .
1 (Там же. С. 143. )
Примечательны заключительные слова "Записки о московских достопамятностях", где Карамзин, определяя место Москвы в государственном организме России, резко противопоставляет бывшую столицу новой - Петербургу. Здесь нет прямого осуждения основания Петром I столицы на берегах Невы, как было в "Записке о древней и новой России". Однако из сравнения недавнего прошлого и современного положения Москвы и Петербурга становятся очевидными симпатии историографа. Именно Москва, по его мнению, являясь "средоточием царства, всех движений торговли, промышленности, ума гражданского", давая стране и "товары, и моды, и образ мыслей", всегда будет настоящей столицей государства. "Ее (Москвы. - В. К. ) полуазиатская физиогномия, смесь пышности с неопрятностию, огромного с малым, древнего с новым, образования с дикостью представляет глазам наблюдателя нечто любопытное, особенное, характерное. Кто был в Москве, тот знает Россию" 1 . Жители древней столицы, по мнению Карамзина, привержены старине, неизменны в своих мыслях в пользу самодержавия и нетерпимы к "якобинцам". В отличие от Москвы, где "не в мыслях, а в жизни" полная свобода, Петербург представляется историографу средоточием легкомыслия и праздности. Здесь, пишет он, "умы развлечены двором, обязанностями службы, исканиями, личностями".
1 (Там же. С. 251 - 253. )
Этот невинный на первый взгляд путеводитель для императрицы по Москве представлял собой очередной отклик историографа на события внутренней жизни России. Исторические, литературные, автобиографические пассажи Карамзина носили едва скрытую символику. В рассуждениях о строительстве храма на Воробьевых горах слышался упрек: вместо того чтобы тратить громадные средства на "пышный" памятник, лучше бы употребить их на восстановление разрушенного захватчиками. Москва, словно бы говорил историограф, а вместе с ней и вся Россия требуют после свалившихся бед не прославления, а активной деятельности в преодолении последствий войны с Наполеоном. В противном случае храм на Воробьевых горах может стать не памятником победы, а символом расточительства, нетерпимого в условиях тяжелого положения государства.
Примечательны и рассуждения Карамзина о Москве и, Петербурге. Они отразили его отношение, по крайней мере, к двум злободневным проблемам. Среди общественности того времени живо дискутировался вопрос о переносе столицы, в частности в Нижний Новгород. В проекте так называемой Уставной грамоты - конституции, разрабатывавшейся по указанию Александра I, Нижний Новгород предполагалось сделать столицей Российской империи. Этот же город провозглашался столицей и в конституционном проекте декабриста Н. М. Муравьева. Карамзинская "Записка о московских достопамятностях" содержала вполне однозначное отношение к подобным планам: только Москва, как символ русской государственности, может быть "истинной" столицей России. Именно поэтому историограф противопоставляет Москву и Петербург как носителей двух разных государственных начал - испытанного жизнью самодержавного и навеянного модными новейшими учениями республиканского. Несомненно, что в последнем случае Карамзин имел в виду своих молодых петербургских оппонентов, пылавших (как он писал И. И. Дмитриеву) "свободомыслием". Историограф прозрачно намекал на то, что и сам он некогда был под влиянием утопических построений, которым, как теперь ему кажется, "можно было удивляться единственно в мыслях, а не на деле" 1 . Петербургу он противопоставляет патриархальные нравы жителей Москвы и жизненный опыт "мудрых старцев", когда-то также не избежавших республиканских увлечений, но теперь рассуждающих с позиций прожитого в пользу самодержавных устоев.
1 (Там же. С. 131. )
"Записка о московских достопамятностях", как и "Записка о древней и новой России", вновь свидетельствовала об оппозиции Карамзина к отдельным мероприятиям правительства Александра I. Более того, в рассуждении о храме на Воробьевых горах она прямо осуждала императора, который еще в 1812 г. принял решение о строительстве храма в случае победы над Наполеоном. Вместе с тем "Записка" реагировала на новые сдвиги в общественном сознании России - появление и оформление декабристской идеологии, широкое распространение либеральных конституционных идей, которые Карамзин, хотя и без воинствующей неприязни, поспешил объявить беспочвенными, иллюзорными мечтаниями, присущими каждому мыслящему человеку лишь в молодости.
К началу 1818 г. печатание "Истории" было закончено, и в феврале этого года все восемь томов одновременно поступили в продажу 1 . Здесь нет нужды подробно говорить о резком усилении в русском обществе первой четверти XIX в. интереса к отечественной истории, особенно после 1812 г. Факт этот общеизвестен 2 и связан с процессами национального развития.
1 (Карамзин Н. М. История государства Российского. СПб., 1816 - 1818. Т. I - VIII. )
2 (См., напр.: Эйделъман Н. Я. Указ. соч. С. 48 - 49. )
Одним из показателей этого интереса можно считать тиражи исторической литературы, которые определялись читательским спросом, являвшимся их своеобразным регулятором. Если исключить учебную литературу по истории, то можно увидеть: тиражи исторической литературы колебались в пределах от 300 до 1200 экз. Такие тиражи имели, например, исторические издания Румянцевского кружка 1 и Московского университета 2 . Средний тираж книг по истории в это время составлял 600 экз. По свидетельству современников, при условии его полной реализации достигалась не только самоокупаемость, но и прибыльность изданий - тот "гонорар", к которому все более проявляли интерес авторы. Эта цифра (600 экз.) соответствует приблизительному числу лиц (около 592 человек), писавших на исторические темы в 1789 - 1825 гг. Такой тираж мог удовлетворять каждого сотого грамотного человека России, хотя процесс реализации тиражей ряда книг по истории даже при хорошо налаженном сбыте иногда затягивался на многие годы. В основном это была специальная литература.
1 (Козлов П. П. Колумбы российских древностей. М., 1981. С. 142. )
2 (Клейменова Р. П. Издательская деятельность Московского университета в первой четверти XIX в. // Книга: Исследования и материалы. М., 1981. Вып. 43. С. 80. )
На этом фоне издание и реализация "Истории" Карамзина оказались явлением уникальным. Ее тираж составил 3 тыс. экз. Решившись на такой тираж, в пять раз превышавший самоокупаемость изданий того времени, Карамзин шел на известный риск: продажа книги могла затянуться. Ведь спрос даже на популярные историко-литературные и литературные журналы при отлаженном из сбыте удовлетворялся тиражами до 1200 экз. (в лучшем случае). Для сравнения укажем, что другая замечательная книга, печатавшаяся одновременно с "Историей" и выдержавшая еще одно издание, - "Опыт теории налогов" Н. И. Тургенева первоначально вышла в свет тиражом в 600 экз.
В соответствии с существовавшей практикой еще я 1817 г. на "Историю" была объявлена подписка. К декабрю 1817 г., по свидетельству Карамзина, вне Петербурга подписчиков было "за 400". Учитывая данные о числе подписчиков в это время на другие издания, можно предположить, что общее число подписчиков на "Историю" не могло значительно превышать 500. Так, например, в 1819 г. на журнал "Соревнователь просвещения и благотворения" подписались 260 человек, на журнал "Благонамеренный" в том же году - 262, журнал "Улей" в 1811 г. - 131, журнал "Украинский вестник" в 1816 г. - 226, "Журнал древней и новой словесности" в 1818 г.- 117 человек. Книга Т. Воздвиженского "Историческое обозрение Рязанской губернии" в 1822 г. имела около 350 подписчиков, а монография Г. И. Успенского "Опыт повествования о древностях русских", вышедшая в 1818 г. вторым изданием в Харькове, - свыше 572 подписчиков (почти половина экземпляров попала в учебные заведения в качестве учебного пособия). Таким образом, основной тираж "Истории", очевидно, поступил в непосредственную продажу, причем наиболее значительная его часть - в Петербурге. Часть тиража (не менее 25 экз.) была закуплена Министерством иностранных дел и разослана в русские посольства за границей 1 .
1 (Сев. почта. 1818. № 10. Министерство иностраных дел выделило на приобретение "Истории" 1400 руб. )
Все восемь томов "Истории" продавались по цене от 50 до 55 руб. Для сравнения можно привести цены на другие книги этого времени. Так, например, издание переведенных И. И. Мартыновым сочинений греческих классиков по подписке стоило 67 руб., годовые подписки на журналы (в зависимости от переплета и качества бумаги) "Северный архив" - от 40 до 45 руб., "Отечественные записки" - от 25 до 30, "Соревнователь просвещения и благотворения" - от 30 до 37 руб. 12 частей "Русской истории" С. Н. Глинки продавались по цене 50 руб. и т. д. Таким образом, цена труда Карамзина соответствовала средним ценам на книжном рынке России 10 - 20-х годов XIX в.
Книготорговый успех "Истории" оказался впечатляющим: тираж был реализован менее чем за месяц, что как явление "беспримерное" отметили многие современники, в том числе не без удивления и сам Карамзин. Авторитетное и хорошо известное свидетельство А. С. Пушкина передает тот ажиотаж, который охватил в первую очередь петербургское общество 1 . С восторгом, но не без иронии об этом сообщал в Варшаву князю П. А. Вяземскому И. И. Дмитриев: "История нашего любезного историографа у всех в руках и на устах: у просвещенных и профанов, у словесников и словесных, а у автора уже нет ни одного экземпляра. Примерное торжество русского умоделия" 2 . По свидетельству В. Л. Пушкина, и в Москве "История" быстро раскупалась, причем "дорогой ценою". В одной из первых заметок об "Истории" автор сообщил, что теперь ее можно достать "с великим трудом и за двойную почти цену" 3 . По воспоминаниям декабриста Н. В. Басаргина, тома "Истории" переходили из рук в руки в Училище колонновожатых.
1 (Пушкин А, С, Полн. собр, соч, 2-е изд. М., 1958, Т, VII, С, 61 )
2 (Письма И. И. Дмитриева к князю П. А. Вяземскому 1810 - 1836 годов. СПб.. 1898. С. 11. )
3 ([Греч Я. И.] Новые книги // Сын Отечества. 1818. Ч. 43. С. 251. )
Современников поражала и быстрая распродажа, и полученный автором многотысячный гонорар. Историограф свидетельствует, что сверх проданного тиража были получены заявки еще на 600 экз. Карамзин согласился с предложением петербургских книготорговцев братьев Слёниных о продаже им права второго, исправленного издания "Истории" за 50 тыс. руб. с рассрочкой выплаты на пять лет (дела, как вспоминал декабрист В. И. Штейнгель, "небывалого в России"), хотя и скептически был настроен в отношении его сбыта. Если исходить из самых приблизительных подсчетов, то можно заключить: продажа восьми томов с вычетом суммы, затраченной на издание (около 10 тыс. руб.), принесла Карамзину не менее 130 - 140 тыс. руб. чистого дохода, к которому надо прибавить 50 тыс. руб. Слёниных. Таким образом, получив за восемь томов "Истории" около 180 - 190 тыс. руб. чистого дохода, историограф мог с полным основанием порадовать своих друзей - это, по меньшей мере, на пять лет успокоило его "экономическую заботливость".
В апреле 1818 г. в известной петербургской частной типографии Н. И. Греча начался набор второго издания. Первый том его увидел свет в том же году, восьмой - спустя два года 1 . Наряду с подпиской продажа этого издания осуществлялась уже не только в Петербурге, но и в Москве, Киеве, Митаве по более высокой (от 75 до 80 руб.), чем первое издание, цене. Распродажа была, очевидно, уже не столь впечатляющей, как и предвидел Карамзин. По свидетельству К. А. Полевого, второе издание "осело" у Олениных и "окончательно было продано уже после смерти" братьев 2 .
1 (Карамзин Я. М. История государства Российского. 2-е изд., испр, и доп. СПб., 1818 - 1820. Т. I - VIII. )
2 (Записки Ксенофонта Алексеевича Полевого. СПб., 1888. С. 287. )
Необычно стали развиваться и последующие события. Почти одновременно с выходом первого издания "Истории" известный немецкий писатель и драматург А. Коцебу опубликовал в издававшемся им в Германии журнале отрывки из труда Карамзина и объявил о намерении осуществить его перевод полностью на немецкий язык. В Россию стали поступать проспекты переводов "Истории" из Парижа (известными литераторами Фюсси-Лаиснё и Жюльеном) - на французский язык, Врауншвейга (писателем Солтау) - на немецкий и Варшавы (Г. Бучйнским) - на польский. Позже начались переводы труда Карамзина на греческий, итальянский, английский языки 1 . "Не знаю, куда деваться от переводов моей "Истории"..., - писал Карамзин в августе 1818 г. Дмитриеву. - Я их не искал" 2 . Обеспокоенный качеством этих переводов, он решил принять участие в подготовке русских изданий французского перевода, к которому приступили в Петербурге Жофре и Сен-Тома 3 , и немецкого, осуществлявшегося уже со второго издания "Истории" директором Царскосельского лицея Гауэншильдом совместно с доктором философии Эртелем 4 . В 20-е годы знатоком китайского языка З. Ф. Леонтьевским был сделан популярный перевод первых трех томов труда Карамзина на китайский язык. Перевод остался в рукописи 5 . Наконец, в 1826 г. известный сербский деятель Г. Магарешевич, опубликовав третью главу первого тома "Истории", объявил о своем намерении перевести на сербский язык и издать все сочинение Карамзина. Подобного успеха за рубежом не знал до этого ни один отечественный исторический труд.
1 (Подробнее о переводах "Истории" см.: Афиани В. Ю., Козлов В. П. Указ. соч. )
2 (Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 247. )
3 (ГИМ. Ф. 247. Д. 2. Л. 148 - 148 об. )
4 (Сербинович К. С. Николай Михайлович Карамзин // Рус. старина. 1874. № 9. С. 59; N. N. О переводах "Истории Российского государства" // Сын Отечества. 1818. № 38. С. 255 - 261. )
5 (Пештич С. Л., Циперович И. Е. "История государства Российского" Н. М. Карамзина на китайском языке // Народы Азии и Африки. 1986. № 6. С. 125. )
Общественный и литературный резонанс первых восьми томов "Истории" оказался настолько значительным, что даже Российская академия, давний оплот литературных противников Карамзина, долгое время игнорировавшая его как возможного кандидата в ее члены, в том же, 1818 году избрала историографа в свой состав, хотя и на "упалое место", т. е. на вакансию умершего Г. Р. Державина. А в декабре 1818 г. произошло событие и совсем из ряда вон выходящее: по предложению президента академии А. С. Шишкова Карамзин выступил здесь с речью 1 .
1 (Карамзин Н. М. Речь, произнесенная в торжественном собрании Российской Академии // Сын Отечества. 1819. № 1, Ч. 51. С. 3 - 32. Цит. по: Литературная критика 1800 - 1820 гг. М., 1980. )
Речь Карамзина затрагивала широкий круг литературных и общественно-политических вопросов. Она содержала его размышления о путях и судьбах развития русской литературы, критики, их роли в жизни общества, в развитии национального самосознания. Речь историографа, пожалуй, как никакое другое его сочинение периода работы над "Историей", была проникнута оптимизмом, искренней верой в могущество своей страны, в будущее величие ее науки и культуры. Великолепная по стилю, она явилась поистине как откровение его дум и мечтаний.
Россия, говорил Карамзин, после Петра I стала европейским государством. Всякие сожаления об этом бесполезны, как бы ни относиться к допетровской Руси, как бы ни превозносить близкие русскому сердцу и уму патриархальные устои, спасавшие ее в тяжелые времена. Толчок развитию страны по новому пути, данный петровскими преобразованиями, оправдал себя. Русское государство укрепило свое могущество и величие. Но, предупреждал историограф, величие государства не сводится только к его военной мощи, способной устрашать соседей. "Для того ли образуются, для того ли возносятся державы на земном шаре, чтобы единственно изумлять нас грозным колоссом силы и его звучным падением, чтобы одна, низвергая другую, чрез несколько веков обширною своею могилою служила вместо подножия новой державе, которая в чреду свою падет неминуемо?" 1 . Цель общественного бытия заключается в том, чтобы создать условия для максимального раскрытия способностей человека, будь то землепашец, писатель, ученый, удовлетворения его чаяний. Не грозной военной силой, изменчивой, как показывает история, должно славиться государство, а созданием возможностей для "раскрытия великих способностей души человеческой", являющихся, в свою очередь, основой прогресса не только отдельных народов, но и всего человечества, приводящих к сближению всех народов. Обходя вопрос о крепостном праве, Карамзин в своей речи, по существу, провозгласил типичную для идеологии просветителей идею просвещения как главную цель и основу человеческого прогресса.
1 (Там же. С. 43. )
Успех первых восьми томов "Истории" стал для Карамзина той важной поддержкой, которая дала ему новые силы для дальнейшей работы. Внешне он старался подчеркнуто безразлично относиться к тому потоку устных и письменных суждений, который вызвал его труд. В такой позиции одни видели высокомерие, другие - молчаливое согласие, третьи - стремление быть выше сиюминутных споров, не лишенных, быть может, личного пристрастия 1 . Терпимость к похвалам и критике, недоверчивое, устало-скептическое отношение к идеям молодых "либералистов", атаковавших его на заседаниях "Арзамаса", в Английском клубе, в салонах и гостиных и даже в собственной квартире и царскосельском домике во время дружеских приемов, подчеркнутая независимость в сношениях со столичной знатью, в суждениях о политических проблемах во время все более учащавшихся встреч с Александром I, - кажется, так представляется общественная позиция Карамзина в это и последующее время. Это подтверждают откровенные, проникнутые светлым чувством дружбы письма к И. И. Дмитриеву, а также многочисленные и единодушные свидетельства современников, которым положение историографа, говоря словами известного мемуариста Ф. Ф. Вигеля, казалось "самое возвышенное, от всех отдельное, недосягаемое для интриг и критики" 2 .
1 (Эйдельман Н. Я. Указ. соч. С. 112 - 119. )
2 (Записки Ф. Ф. Вигеля. М., 1892. Ч. 6. С. 56. )
В декабре 1820 г. Карамзин закончил работу над девятым томом "Истории". В нем повествовалось о второй половине царствования Ивана Грозного, характеризовавшейся историографом "ужасной переменой в душе царя и судьбе царства". В томе впервые в труде Карамзина (но не впервые в отечественной исторической и художественной литературе, не говоря уже о зарубежной) ставилась и развивалась тема деспотизма и тирании как извращения идеи самодержавной власти. Карамзин не мог не предвидеть, что общественный резонанс на том окажется еще большим, чем на первые восемь томов. В этом он мог убедиться хотя бы 8 января 1820 г., когда отрывки из него прочитал в присутствии около 300 человек на торжественном заседании Российской академии. Слушатели были поражены услышанным; не случайно само чтение в академии стало возможным только после того, как ее осторожный президент предварительно согласовал тему выступления с Александром I. После выступления по Петербургу стали носиться слухи о неком "мнении", согласно которому написанное Карамзиным печатать преждевременно. Так, например, в июле 1820 г. Н. И. Тургенев писал брату Сергею, что в Петербурге "многие находят, что рано печатать историю ужасов Ивана царя" 1 . "Здесь кто-то разгласил", сообщал Карамзин Дмитриеву, что девятый том даже "запрещен" 2 .
1 (Декабрист Н. И. Тургенев: Письма к брату С. И. Тургеневу, 1811 - 1821. М.; Л., 1936. С. 349. )
2 (Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 306. )
Историографа долго не покидали сомнения в решении издавать этот том. "Меня что-то останавливает, - делился он с Дмитриевым, - Дух времени, не есть ли ветер. А ветер переменяется. Вопреки твоему мнению, нельзя писать так, чтобы невозможно было прицепиться" 1 . Сомнения рассеялись, когда сам император в одной из бесед с Карамзиным в соответствии с "духом времени" заверил его, что он "не расположен мешать исторической откровенности". Ознакомление министра внутренних дел В. П. Кочубея с письмом Голицына 1816 г., разрешавшим издание первых восьми томов без цензуры, решило судьбу девятого тома: 9 ноября 1820 г. Кочубей сообщал Карамзину, что относительно издания продолжения его труда "дано уже содержателю типографии господину Гречу надлежащее разрешение" 2 . На том вновь была объявлена подписка. В конце мая 1821 г. он поступил в продажу 3 и начал рассылаться через Петербургский почтамт подписчикам по цене 15 руб., а вместе с восемью томами второго издания по цене 87 руб. в Петербурге, 95 - в Москве и 100 - в других городах. Насколько успешной была реализация девятого тома, нам ничего неизвестно.
1 (Там же. С. 300. )
2 (ЦГИА СССР. Ф. 951. Оп. 1. Д. 15. Л. 1. )
3 (Карамзин Я. М. История государства Российского. СПб., 1821, Т. IX. )
А между тем Карамзин "спешил к цели" - "посадить Романовых на трон и взглянуть на его потомство до нашего времени, даже произнести имя Екатерины, Павла и Александра с историческою скромностию". В марте 1821 г. он приступил к работе над десятым томом, в августе того же года был "весь в Годунове", в сентябре начал описание событий, связанных со смертью царевича Дмитрия. В начале 1822 г. историограф "приблизился к концу Феодорова царствования", а в ноябре работал над главами, связанными с событиями времени правления Лжедмитрия. В конце этого года Карамзин отказался от первоначального намерения издать один десятый том: "...лучше, кажется, - писал он Дмитриеву, - дописать историю Самозванца и тогда выдать уже полную: в царствование Годунова он только начинает действовать" 1 .
1 (Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 340. )
Верный однажды избранной тактике, Карамзин не упускал возможности публичных чтений отрывков из написанного. Их слушали не только его друзья. В октябре 1822 г. Карамзин читал главу об избрании на царство Бориса Годунова в салоне вдовствующей императрицы Марии Федоровны, и, по его словам, "гатчинское общество не дремало" 1 .
1 (Там же. С. 339. )
Наконец, 14 января 1823 г. состоялось еще одно чтение в Российской академии. Если не обеспокоенный, то уже, во всяком случае, заинтригованный откликами на девятый том и чтения отрывков из десятого, теперь и Александр I вспомнил свои права "державного цензора" и изъявил желание познакомиться с написанным Карамзиным.
В феврале 1823 г. он потребовал рукопись десятого тома; позже, отправляясь в Варшаву, забрал главы, посвященные царствованию Годунова и его сына, в январе 1824 г. оставил у себя уже переписанные набело главы о Лжедмитрии.
Судя по сохранившимся отрывочным сведениям, замечания Александра I в первую очередь касались смягчения сюжетов, отличавшихся в то время острым политическим звучанием. Об одном из них, имевшем принципиальное значение для историко-публицистической концепции Карамзина относительно царствования Федора Ивановича, историограф сообщал Дмитриеву в надежде на то, что испытанный друг поймет его с полуслова.
Дело в том, что описание царствования Федора Ивановича у Карамзина оказалось удивительно "похожим" на первые годы царствования Александра I. Слабовольный Федор невольно для современников Карамзина ассоциировался с Александром I; путь к власти Бориса Годунова напоминал положение и карьеру М. М. Сперанского до 1812 г. и т. д. Готовя десятый том, Карамзин провел аналогию еще дальше. К этому времени на правительственный курс Александра I начало оказывать сильное влияние реакционное духовенство, лидерами которого являлись петербургский митрополит Серафим и настоятель Новгородского Юрьева монастыря Фотий. Отношение к ним со стороны Карамзина было однозначно отрицательным. Стремясь преподнести из прошлого "урок" императору, Карамзин вставил в текст "Истории" мысль о том, что "слабый Федор должен был зависеть от вельмож или (подчеркнуто нами. - В. К. ) монахов". На это немедленно обратил внимание Александр I: "...последнее, - писал он в передаче Карамзина, - не оскорбит ли нашего черного духовенства?" 1 . В печатном тексте фраза чуть изменена с сохранением ее основного смысла. Оставлены и другие, на которые обратил внимание император, исключая неизвестные нам поправки Карамзина "в двух местах". Сохранился один из ответов Карамзина на замечания Александра I. "Следуя вашему милостивому замечанию, - писал историограф, - я с особенным вниманием просмотрел те места, где говорилось о поляках, союзниках Лжедмитрия; нет, кажется, ни слова обидного для народа , описываются только худые дела лиц и так, как сами польские историки описывали их, или судили: ссылаюсь на 522 примечание XI-го тома. Я не щадил и русских, когда они злодействовали или срамились. Употребляю предпочтительно имя ляхов для того, что оно короче, приятнее для слуха и в сие время (то есть в XVI и в XVII в.) обыкновенно употреблялось в России" 2 .
1 (Там же. С. 347. )
2 (Карамзин Н. М. Неизданные сочинения и переписка. СПб., 1862. С. 29. )
К концу 1823 г. у Карамзина сложилось окончательное представление о структуре оставшейся части "Историй": в десятый том он включил события царствования Федора Ивановича с главой о состоянии России в XVI в., в одиннадцатый - главы о царствовании Бориса Годунова, Лжедмитрия и об избрании на царство Василия Шуйского. Последний, двенадцатый том должен был содержать описание событий начала XVII в. до избрания на царство Михаила Романова. В ноябре 1823 г. десятый и одиннадцатый тома были сданы в набор. В марте следующего года они поступили в продажу по 20 и 30 руб. (в зависимости от качества бумаги) 1 .
1 (Карамзин Н. М. История государства Российского. СПб., 1823 - 1824. Т. X - XI. )
О распродаже этих томов сохранилось несколько свидетельств. 14 марта 1824 г. А. И. Тургенев писал П. А. Вяземскому: "На Семеновском мосту только и встречаешь, что навьюченных томами Карамзина "Истории". Уже 900 экземпляров в три дня продано" 1 . Но уже 25 марта тот же Тургенев сообщал своему корреспонденту, что Карамзин "очень огорчен холодным разбором его двух томов и в досаде говорил, что перестанет писать "Историю". Вообрази себе, что по четыре, по пяти экземпляров в день разбирают... Он принужден уступать на срок книгопродавцам... Здесь многие почти ежедневно у Карамзина и не взяли его "Истории"! Другие просят прочесть" 2 . К середине 1824 г. было продано около 2 тыс. экз., а к октябрю 1825 г. от всего тиража у историографа оставались нереализованными 1800 экз., которые он был вынужден сдавать на комиссию по 50 - 100 экз. в книжные магазины Л. Л. Свешникова, И. В. Слёнина и М. И. Заикина со скидкой до 4% с 1 руб. Таким образом, перед нами явное снижение книготоргового успеха последних томов труда Карамзина по сравнению с восемью первыми (разумеется, если тираж последних двух был равным или незначительно превышал тираж первых восьми томов, о чем можно только гадать).
1 (Остафьевский архив. СПб., 1899. Т. 3. С. 19. )
2 (Там же. С. 26. )
Последний, двенадцатый том "Истории" не был завершен. Предчувствуя кончину, Карамзин писал его без "Примечаний", являвшихся важной частью всего труда. Уже после смерти историографа этот том был подготовлен к печати его друзьями и увидел свет весной 1829 г 1 .
1 (Карамзин Я. М. История государства Российского. СПб., 1829, Т. XII. )
Для понимания роли, которую сыграла "История" в общественной жизни России первых десятилетий XIX в., для понимания развернувшейся вокруг нее полемики представляет интерес выявление круга читателей труда Карамзина и географии распространения "Истории" в это время. Единственным источником является список подписчиков, опубликованный при втором издании восьми томов "Истории". Список нельзя признать достаточно репрезентативным. Во-первых, в него включена только часть подписчиков на первое издание, причем, очевидно, наиболее состоятельная, решившая приобрести, кроме первого, и второе издание. Менее состоятельная часть, естественно, довольствовалась первым изданием. Во-вторых, список включает фамилии всего 283 "особ". Даже если предположить, что тираж второго издания был в пределах до 1200 экз., становится очевидным, что список подписчиков составляет всего около четверти общего числа владельцев этого издания. Наконец, нам неизвестно, содержит ли этот список всех подписчиков на второе издание, или же при включении в него фамилий подписавшихся Карамзин исходил из каких-то только ему известных критериев.
И, тем не менее, анализ списка подписчиков на второе издание "Истории" дает любопытную картину, в какой-то степени типичную для характеристики круга читателей и других историко-литературных произведений этого времени.
Список показывает, что основным читателем "Истории" Карамзина стало дворянство. Дворянство являлось основным читателем и других исторических и историко-литературных изданий этого времени. Анализируя состав подписчиков на "Историю" (а также другие книги и журналы), не следует преувеличивать среди них роль представителей купечества. Многие купцы подписывались на литературу в расчете на ее перепродажу по более высокой цене. Так, например, из четырех купцов, подписавшихся на "Журнал древней и новой словесности" (1818 г.), два приобрели соответственно по 25 и 10 экз. журнала. Ту же картину мы видим и в подписке на "Историю": московский купец Н. О. Воробев приобрел 10 экз., купцы П. А. Плавильщиков, И. П. Глазунов, Свешниковы - по 11 экз. Ограниченное число подписчиков из других сословий объясняется, очевидно, ценой книги. Сохранилось любопытное свидетельство М. П. Погодина (выходца из обеспеченной семьи крестьянина-откупщика) о том, как он, студент Московского университета, был вынужден использовать немало уловок для того, чтобы собрать сумму, необходимую для приобретения восьми томов первого издания "Истории". "Пред выходом ее, - вспоминал он, - батюшка подарил мне 80 рублей на образцовые сочинения, и мне совестно было просить у него еще 55 рублей. У меня было только 8 рублей или еще меньше. Я сказал ему, что у меня 35 рублей и что недостает только 20 рублей, он мне дал их. С этими деньгами я пошел к В. Г. И., который очень любил меня, и сказал ему, что у меня недостает 10 рублей для покупки "Истории". Он мне дал 12 рублей, у меня собралось уже 40. Эти 40 рублей отдал я А-ву, попросил его купить, и, зная, что "История" стоит 55 рублей, я сказал ему, что ее можно купить за 35. Если же нельзя, то чтоб он прибавил своих, сколько будет нужно. Но в это время в Москве не было уже, ни одного экземпляра, и он мне возвратил 40 рублей. Я выпросил у него взаймы 10 рублей, уверив его, что у одного моего знакомого продается экземпляр, и у меня было 55 рублей. Боже мой! И теперь не могу вспомнить, чего мне стоили эти просьбы, с каким сжатым сердцем подходил я и выговаривал ненавистное в таком случае имя денег... Однако все не удалосы "История" вся уже была раскуплена. Наконец, батюшка написал в Петерб[ург] к одному знакомому, и там уже купили ее за 70 рублей, которые он и заплатил" 1 .
1 (ОР ГБЛ. Ф. 231. Карт. 1. Д. 31. Л. 84. )
Типичной для изданий этого времени оказалась и география подписчиков на "Историю". Среди них мы встречаем жителей не только Петербурга, Москвы, Киева, Харькова, Ярославля, Чернигова, Казани, Тамбова, Вильно, Дерпта и других центров культурной жизни России, но и менее заметных в этом отношении мест, таких, как Ельна, Обоянь, Каменец-Подольский, Браилов, Венев, Бахмут, Кяхта, Кирсанов, Чембар, Иркутск, Омск, Епифань и др. - всего свыше 60 городов и местечек страны. Для сравнения можно, например, указать, что журнал "Благонамеренный" в 1819 г. имел подписчиков из 129 мест, журнал "Соревнователь просвещения и благотворения" в том же году - из 105 месту журнал "Украинский вестник" в 1816 г. - из 81 места, книга Г. И. Успенского "Опыт повествования о древностях русских" - из 99 мест.
Таким образом, книготорговый успех труда Карамзина оказался значительным. На фоне других изданий 10 - 20-х годов XIX в. "История" выделялась тиражом быстротой его реализации, переизданием и переводом на иностранные языки. Но все это было лишь частью того что дало основание современникам назвать издание, распространение и успех "Истории" "феноменом небывалым" и том, какой еще смысл скрывался за этими словами и пойдет речь в следующих главах.
Н.М.КАРАМЗИН – ЖУРНАЛИСТ
1 января 1791 года вышла первая книжка «Московского журнала». Карамзинский журнал был журналом нового типа, в котором публиковались произведения оригинальные и переводные, отличавшиеся высоким эстетическим вкусом. Впервые в журнале появился регулярный отдел критики, библиографии, смеси. При этом следует отметить новое понимание задач критики: «Хорошее и худое замечено будет беспристрастно». Самым обширным был отдел «Русских сочинений в стихах и прозе», в котором большая часть произведений принадлежала самому издателю. Здесь были напечатаны «Письма русского путешественника», «Бедная Лиза», «Фрол Силин», очерк «Деревня», баллада «Раиса», «Граф Гваринос», стихотворения, рецензии. Он старался публикацией материалов в журнале способствовать нравственному и эстетическому воспитанию читателей. «Московский журнал» был литературным журналом, рассчитанным прежде всего на вкусы дворянского читателя. Однако разнообразный материал, поданный живо и замечательно, легкий, изящный язык, явившийся отличительной чертой журнала, сделал его доступным и для людей низших сословий. Карамзин сознательно отказался от обращения к политическим вопросам, он предпочитал не вступать в полемику с сатирическими журналами. «Учтивость, приветливость есть цвет общежития», – считал он и придерживался этого правила.
Одновременно выходил журнал «Чтение для вкуса, разума и чувствований» /1791-1793/ под редакцией Подшивалова, а также журнал «Приятное и полезное препровождение времени», которые испытывали влияние «Московского журнала» и карамзинской сентиментальной прозы. На страницах журнала Карамзин выступает с новым обоснованием задач искусства, отвергает условность и нормативность классицизма. Он требовал от искусства распространение изящного: «Выражение чувства (или ощущения) посредством изящных мыслей есть цель поэзии». Сознательно отказываясь изображать отрицательные явления жизни, бедственное положение народа, он оправдывает это тем, что щадит «чувствительное сердце моего читателя». Журнал способствовал утверждению сентиментализма в литературе, чувство противопоставлялось разуму, свойственному классицизму.
Карамзину принадлежит и первый литературно-общественный журнал «Вестник Европы» /1802г./, положивший начало русской журналистике XIX века.
С Карамзина начинается и такой тип издания, как альманах. В 1794 году Карамзин издал первую книжку альманаха «Аглая», который представлял собой литературный сборник, составленный из произведений прозаических и стихотворных. Здесь же помещались статьи по вопросам литературы и искусства. Следующий альманах – «Аониды» был стихотворным /1796, 1797, 1799/. В нем печатались авторы, близкие по своим литературным взглядам Карамзину.
По мнению Карамзина, чувство, а не рационалистическое задание должно преобладать в литературном произведении. Изображая жизнь человека со всеми ее радостями и горестями, передавая его интимные переживания, писатель должен «трогать сердце», «наполнять его горестными или сладостными чувствами», вести читателя к нравственному совершенству. Окружающая действительность, объективный мир отображаются преломляясь через призму авторского, субъективного «я» писателя. Карамзин считал, что только истинно гуманный человек, способный сострадать чужим несчастьям, может браться за перо.
Субъективные переживания, субъективно-эмоциональное восприятие и оценка жизненных явлений, а не сама реальная действительность, в отличие от Радищева, занимают главное место в творчестве Карамзина. Автор должен «писать портрет души и сердца своего», помогая в то же время «согражданам лучше мыслить и говорить». Считая, что писатель должен «подражать натуре», Карамзин придает решающее значение воображению и чувству поэта, которые могут и должны приукрашивать натуру. Эти эстетические принципы лежат в основе творчества Карамзина. Эти принципы отразились в «Письмах русского путшественника».
Крупнейшим произведением Карамзина явились «Письма русского путешественника», которые печатались в 1791-1792 гг. в «Московском журнале» по частям. В них проявились особенности его творческого метода и эстетических принципов. «Письма», передающие непосредственные впечатления Карамзина о странах, которые он посетил, отличаются свободной композицией, в которой перемежаются объединенные воедино личностью автора разнообразные картины политической и культурной жизни западных государств, царящих там нравов и обычаев; встречи писателя с известными философами, литераторами, государственными деятелями.
В книге много философских и нравственно-этических размышлений самого автора, вызванных увиденным и услышанным.
Будучи энциклопедически образованным человеком, Карамзин с большой тонкостью передает все увиденное за границей, избирательно относясь к огромному потоку впечатлений. И хотя все увиденное пропущено через авторское «я», писатель выходит за рамки субъектиных переживаний и наполняет письма множеством обширных и конкретных сведений о культуре и искусстве, географии и быте посещаемых им стран.
«Письма» Карамзина расширяли представления и круг знаний русского читателя. Познавательная ценность книги, высокие благородные чувства, ею пробуждаемые, делали «Письма» популярными не только у русского, но и европейского читателя (книга переведена на немецкий, французский, английский, польский и голландский языки).
В «Письмах» читатель встречает имена крупнейших писателей и философов, многим из которых автор дает характеристики, воссоздает их портретный образ. Здесь имена Ричардсона, Стерна, Шекспира, Гете, Шиллера, Лессинга, Виланда, Гердера, Руссо, Мабли и других писателей и мыслителей, имена знаменитых художников: Рафаэля, Рубенса, Ван-Дейка, Веронезе и многих других.
Много внимания уделено описанию природы, которая, по мнению Карамзина, очищает человека и возносит благодарность богу за возможность жить в общении с природой.
В «Письмах» даны наблюдения над разными сторонами жизни и нравов государств (особенно в письмах из Франции и Англии). Сложно и противоречиво отношение писателя к Франции. Он приехал сюда в тот момент, когда страна пожинала горькие плоды абсолютизма. На каждой станции путешественников окружали нищие. Находясь в Булонском лесу, автор вспоминает о недавнем времени, когда великосветские куртизанки щеголяли друг перед другом великолепием экипажей и разоряли щедрых поклонников. С презрением говорит путешественник о Французской академии: половина ее членов невежественна и занимает свои места по знатности рода. Вспоминая о Людовике XIV, Карамзин осуждает его за неразумные гонения на гугенотов, в результате чего «тысячи трудлюбивых французов принуждены были оставить отечество».
Начало революции, отличавшееся сравнительно мирным характером, Карамзин, подобно Виланду, Клопштоку, Гердеру, Шиллеру, Канту, встретил с явным одобрением. Позже автор вспоминал, с каким восхищением он слушал в Народном собрании пламенные речи Мирабо. Но в окончательном варианте «Писем», созданном после 1793 года, революция решительно осуждена. Самое страшное для Карамзина, как и для большинства просветителей XVIII века, – восставший народ и революционная диктатура. Напуганный якобинским террором, он готов примириться с монархическим правлением, уповая на медленные, но более верные, по его мнению, успехи нравственности и просвещения. «Всякое гражданское общество, веками утвержденное, – пишет он, – есть святыня для добрых граждан; и в самом несовершеннейшем надобно удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку. Всякие же насильственные потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот».
О восставшем народе Карамзин пишет: «Народ есть острое железо, которым играть опасно, а революция – отверстый гроб для добродетели и самого злодейства». Он называет восставших «нищими праздолюбцами», «пьяными бунтовщиками». Осуждая якобинскую диктатуру, он считает, что только те изменения прочны, которые достигаются посредством медленного, постепенного развития просвещения, успехами разума и воспитания.
Карамзин стремится показать не только то, что объединяет людей, но и то, что их разобщает. К числу таких пагубных заблуждений он относит проявление национальной замкнутости и национального самомнения. «Хорош гусь!» – говорит он о немце, который бранит русских, ни разу в жизни не встретив ни одного из них. Столь же враждебна автору религиозная нетерпимость, фанатизм. Он верит в благотворную роль науки и искусства, поэтому он ищет все время встречи с философами и писателями.
Наиболее полно черты сентиментальной прозы Карамзина, – пафос гуманности, психологизм, субъективно-чувствительное восприятие действительности, лиризм повествования и простой «изящный» язык – проявились в его повестях. В них отразилось повышенное внимание автора к анализу любовных чувств, душевных переживаний героев, усилилось внимание к психологическим действиям. С именем Карамзина связано рождение русской психологической прозы. Важным и прогрессивным моментом в творческой деятельности писателя было признание права личности независимо от сословной принадлежности на осуществление внутренней свободы. Отсюда идейной основой повести «Бедная Лиза» было утверждение писателя «и крестьянки любить умеют». Эта психологическая повесть пользовалась особенным успехом у читателей. «Бедная Лиза» была напечатана в 1792 году в «Московском журнале»
Сюжет повести не притязателен и весьма распространен в литературе: любовь бедной девушки и молодого дворянина. В основе карамзинской повести – жизненная ситуация. Социальное неравенство крестьянской девушки и дворянина предопределило трагический исход их любви. Однако для Карамзина важно прежде всего передать психологическое состояние героев, создать соответствующее лирическое настроение, способное вызвать ответное эмоциональное чувство читателя. Он не акцентирует внимание на социальных переживаниях, о которых упоминается в повести, переводя их в нравственно-этический план. Карамзин лишь намекает на то, что социальное неравенство затрудняет брак дворянина и крестьянки. Лиза в беседе с Эрастом говорит, что ему «нельзя быть ее мужем», так как она крестьянка. И хотя все симпатии Карамзина на стороне прелестной, кроткой бедной Лизы, о судьбе которой чувствительный автор проливает слезы, тем не мение поступок Эраста он пытается объяснить обстоятельствами, характером героя. Эраст был наделен «добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным». Он «читывал романы, идиллии, имел довольно живое воображение...» и неиспорченность, наивность и естественная красота крестьянской девушки не могли не пленить его воображение. Однако привычка к праздной и обеспеченной жизни заставила его в силу эгоизма и слабости характера поправить свои дела женитьбой на богатой вдове. Передав сцену прощания Эраста с Лизой, которой он дает сто рублей, Карамзин восклицает: «Сердце мое обливается кровью в сию минуту. Я забываю человека в Эрасте – готов проклинать его – но язык мой не движется – смотрю в небо, и слеза катится по моему лицу». У Карамзина нет резких оценок, нет пафоса негодования, он и в страдании героев ищет утешения, примирения. Драматические, а подчас и трагедийные события призваны вызвать не возмущение, гнев, а грустное, меланхолическое чувство. Несмотря на жизненность ситуации, авторское эмоциональное восприятие действительности мешало подлинной типизации. Жизнь Лизы и ее матери мало чем напоминала реальную жизнь крестьян. Лиза, подобно героиням сентиментальных идиллий, живет в хижине. Ее работа, внешний облик, речь идеализированы Карамзиным и не говорят о социальной принадлежности Лизы. Это, скорее, благовоспитанная барышня.
Большое место в повести занимают авторские лирические отступления, диалог, монолог героев. Лирическая манера повествования создает определенное настроение. Этому в повести служит и пейзаж, на фоне которого развивается действие, пейзаж созвучный настроениям героев. Главную роль играет интонационный строй речи, делающий прозу Карамзина мелодичной, музыкальной, ласкающей слух и действующей на душу читателей, который не мог не сопереживать героям. Впервые в прозе Карамзина пейзаж стал средством сознательного эстетического воздействия – «пейзажом души». Читатели повести верят в достоверность рассказа и окрестности Симонова монастыря, пруд, в котором погибла Лиза, стали местом паломничества.
Карамзин часто прибегает к словесным повторам, эпитетам, выражающим эмоциональность или созерцательность героев, и другим выразительным поэтическим средствам.
Идея внесословной ценности человеческой личности была раскрыта Карамзиным не только в трагическом, как это было в «Бедной Лизе», но и в панегирическом плане. Так появился «Фрол Силин, благодетельный человек», герой которого реальная личность, он был крестьянином деда племянника поэта И.И.Дмитриева. Фрол Силин совершает великодушные поступки, он спасает в неурожайный год голодающих крестьян, помогает после пожара погорельцам, воспитывает двух крестьянских девочек-сирот, для которых сумел выпросить у помещика «отпускные». Карамзин в повести говорит о праве своего героя на благодарную память потомков.
Его перу принадлежат и исторические повети: «Наталья – боярская дочь». О политических взглядах Карамзина в начале XIX века свидетельствует повесть «Марфа Посадница» (1803 год), в основу которой положены события XV века – борьба Новгородской республики с московским самодержавием за свою самостоятельность. Исторический конфликт между республиканским Новгородом и самодержавной Москвой выражен в повести в противопоставлении двух сильных характеров: Марфы и Иоанна. Своеобразие политической позиции Карамзина в повести состоит в том, что в ней в одинаковой степени возвеличены и прославлены и республиканские и монархические принципы, что полностью соотвтествует мировоззрению Карамзина, сумевшего в своих взглядях соединить оба эти начала. В повести намечается поэтизация республиканских доблестей Древнего Новгорода, особенно в тех случаях, когда автор умышленно отходит от фактов, хорошо известных ему как историку. Новгородцы показаны как дружный воинский стан, сплотившийся вокруг Марфы. И лишь по мере нарастания трудностей, когда на город обрушиваются и военные неудачи, и голод, люди, слабые духом, начинают требовать присоединения к Москве. «Марфа Посадница» была последним беллетристическим произведением Карамзина.
Карамзин явился родоначальником романтической повести. Его «Остров Борнгольм» и «Сиерра – Морена» пользовались огромным успехом у читателей и предвосхитили романтические повести А. Бестужева-Марлинского, Н. Полевого.
«Остров Борнгольм» - повесть, необычайная и по сюжету, и по поэтики. Она несет на себе отпечаток пессимизма автора, вызванного Французской революцией, якобинской диктатурой и последующими событиями в Европе. Эмоциональная напряженность этого произведения достигается необъяснимым, неясным и тайным сюжетом. Вообще сюжет в повести имеет минимальное значение, главное – настроение тревожное, вызывающее непонятный страх, который усугубляется мрачным, угрюмым пейзажем. Читатель почти ничего не узнает о героях повести. Загадочность, недоговоренность подчеркиваются отрывочностью повествования, авторскими эмоциональными отступлениями, глубоко элегическим тоном рассказчика.
Романтична и повесть «Сиерра – Морена», в которой бушуют страсти и развертываются драматические события «в цветущей Андалузии». В повести повествуется о пылкой и страстной любви Эльвиры и Алонзо, которая кончается сомоубийством героя и уходом в моностырь неутешной Эльвиры. Рассказчик, от лица которого ведется повествование, оказывается невольным виновником трагической развязки, что придает повести особую эмоциональную напряженность, драматизм.
Успех прозаических произведений Карамзина зависел от стилистической реформы писателя. В.Д.Левин, говоря о лексике Карамзина, пишет: «Стилистическая окраска слова здесь не определяется предметом, а накладывается на предмет, поэтизирует его – и нередко, чем ближе предмет к бытовой жизни, тем менее поэтичен он сам по себе, тем необходимей оказывается поэтизация его при помощи отображенного слова».
Именно поэтому Пушкин на вопрос: «Чья проза лучше в нашей литератруре?», отвечал: «Карамзина», хотя тут же добавлял, что «это еще похвала небольшая, так как очищенный язык прозы Карамзина, его французская утонченность» не могли уже удовлетворить писателей начала XIX века.
Карамзин, стремясь создать новый русский литературный язык взамен принятых классицизмом трех «штилей», ставил своей задачей приблизить литературный язык к языку разговорному. Он считал, что любые идеи и мысли можно выражать ясно и приятно. Карамзин выдвинул требование писать «как говорят», но он ориентировался на разговорную речь образованного дворянского сословия, очищая тем самым язык не только от архаизмов, но и от простонародных слов. Он признавал обогащение русского языка за счет усвоения отдельных иностранных слов, новых форм выражений. Сам он внес много новых слов: влюбленность, человечный, общественность, промышленность и другие. Недостатком реформы литературного языка Карамзина был отход от сближения русского литературного языка с языком простого народа. Заслугой Карамзина явилось стремление, осуществленное им в своей литературной практике, к расширению границ литературного языка, освобождению его от архаизмов, сближению литературного языка с живой разговорной речью образованного общества.
Перу Карамязина принадлежит также двенадцатитомная «История Государства Российского», где он отразил историю России с древнейших времен и до начала XIX века.
Творчество Каразина сыграло важную роль в истории русской литературы. Личность писателя – человека гуманного, образованного, независимого по отношению к власти, снискала ему уважение в передовой части русского общества.
Значение творчества Карамзина выходит за рамки сентиментализма, за границы XVIII века, поскольку оно оказало сильное влияние на литературу первых трех десятилетий XIX века. Именно это дало основание Белинскому говорить о карамзинском периоде русской литературы. В своих повестях Карамзин выступил тонким психологом. Он обогатил литературу такими художественными средствами, как мимика, жест, внутренний монолог, лирический пейзаж.
В доме Карамзина бывали Жуковский, Батюшков, Вяземский, Пушкин и декабристы. Не разделяя его идеологических убеждений, они уважали в нем человека, писателя, понимавшего свой долг, автора ставшей сразу знаменитой «Истории Государства Российского». «История» вдохновила Рылеева создать героическую думу, Пушкина – трагедию «Борис Годунов», А.К. Толстого – драматическую трилогию о Грозном и его преемниках, а также роман «Князь Серебряный».
Лекция 13
Карамзин! Какое чудесное имя, милостивый государь! Какою невыразимо-сладкою мелодиею звучит оно для ушей моих! Перед мысленным взором моим при этих звуках тотчас возникает образ столь светлый, столь чистый, столь привлекательный, что напрасно я бы пытался изобразить его красоту своею неискусною речью. Великий писатель, создатель русской истории, зачинатель нового периода нашей литературы, а главное -- человек несравненный по мягкости и благородству души, друг царей, но верноподданный России 1 -- чего же еще нужно для самой чистой славы? Можно быть полезнее Карамзина, но усерднее быть невозможно; можно превзойти его размером сил, но нельзя превзойти красотою подвига; можно быть более великим, но нельзя быть более прекрасным человеком и гражданином!
Вы, может быть, удивляетесь, милостивый государь, этому восторженному тону, столь редкому в наше холодное и скептическое время (мы нынче стали ужас как рассудительны!); но вы поймете мое душевное настроение, если я вам открою, что я воспитан на Карамзине, что мой ум и вкус развивался на его сочинениях. Ему я обязан пробуждением своей души, первыми и высокими умственными наслаждениями.
Так как я человек еще не очень старый, то вы должны найти странным это обстоятельство; между тем оно случилось довольно обыкновенным образом. Я воспитывался в месте диком и уединенном, в заведении глухом и невежественном. Так я осмелюсь назвать губернский город и учебное заведение, где я провел от двенадцати до шестнадцати лет моего возраста, те начальные годы, когда душа только что раскрывается для разумения и приемлет первые неизгладимые впечатления. Это было в самом начале сороковых годов. Припомните, какая это была блестящая и многознаменательная эпоха в литературе. Лермонтов оканчивал свою деятельность, Гоголь издал "Мертвые Души", Белинский гремел все сильнее и сильнее и процветали "Отечественные Записки", переживавшие лучшую и незабвенную пору своего долгого существования. И что же? Наша семинария (кто по моей фамилии не догадался, что я семинарист? 2) ничего об этом не знала, не имела ни малейшего понятия, как будто она стояла не на слиянии Волги и Костромы, а где-нибудь за семью морями, в Америке, еще не открытой Колумбом (из настоящего времени не приберешь и сравненья). Это заколдованное царство было истинно заколдовано страшной бедностью, непробудной ленью и непроницаемым невежеством. Вся эта масса народу от первого наставника до последнего из шести или семи сотен учеников -- ничего не делала, ни над чем не трудилась и жила столь беспечно и спокойно, как будто никаких дел и не существует на свете, тем беспечнее и спокойнее, что под видом высших занятий можно было даже забыть латинскую и греческую грамматику -- единственные сведения, которыми в начале учения украшается каждый семинарист. /p>
О моя семинария! Когда-нибудь я напишу о тебе "особую поэму", разумеется в прозе, но -- никогда я не помяну тебя лихом. Ты запечатлелась в моем воображении картиною светлою, идиллическою. Простите, милостивый государь, если я невольно отдаюсь этим сладким воспоминаниям. Семинария наша помещалась в огромном, но заглохшем и обвалившемся монастыре, в котором не насчитывалось уже и десятка монахов. Монастырь был старинный, XV века; в защиту от татар и других диких племен, он окружен был крепостною стеною, в которую можно было всходить; в верхней части ее были амбразуры для пушек и пищалей, по углам башни, под башнями подземные ходы... Мы жили, так сказать постоянно и со всех сторон окруженные Историею.
В эту обширную и пустынную развалину каждое утро сходилось из города множество мальчиков и юношей; они собирались в зданиях, лепившихся у монастырских стен и часто более похожих на сараи для лошадей, чем на людские жилища. Живо помню вас, мои бедные товарищи! Это были большею частью дети сельского духовенства, следовательно, вполне деревенские мальчики, с деревенскими нравами, в деревенской одежде -- в лаптях и нагольных тулупах зимою, и только летом в более цивилизованном платье -- в крашенинных 3 халатах, при которых не было нужды в панталонах. Это были же, однако, очень недурные дети! Их доброта, честность, мягкие и чистые нравы приводят меня в умиление, когда я переношусь мыслью в те далекие годы.
Одно было дурно: учение шло из рук вон плохо. Чтением никто не занимался, так как книги были величайшею редкостью у учеников. Наставники, конечно, имели более возможности следить за наукой и литературой, но предпочитали игру в карты по маленькой, а затем выпивку и закуску. Бездействие было невероятное: собравшиеся ученики даже проводили большую часть времени одни, так как наставники безбожно опаздывали или часто и вовсе не приходили. Зато как мы резвились и веселились! Собравшись огромной толпой, мы, бывало, по целым часам пели хором деревенские песни; затем беготня, шум, рассказы, споры... особенно споры. Удивительно подумать, каким образом и откуда в этой массе, отрезанной от всего мира, держался и действовал нравственный дух и умственный жар весьма значительного свойства... Но об этом когда-нибудь после.
Итак, литература того времени к нам не проникала и не могла проникнуть. Но я однако же не ограничился тощими тетрадками, из которых почерпалась наша умственная пища. Уже тогда во мне загорелась страсть к чтению, которая ясно показывала, что судьба приведет меня на несчастное поприще русской словесности. Я добрался до семинарской библиотеки, в которую никто не заглядывал и из которой почти вовсе не выдавались книги. Библиотекарем был один из старших наставников, питавший ко мне особенное расположение. Он, подсмеиваясь и называя меня "преученою особой", дал мне свободный доступ к пыльным ворохам книг, хранившимся в одной из боковых комнат старинного собора, -- и началось мое наслаждение.
Кто составлял эту библиотеку и какие случаи определили ее состав -- не знаю. Но оказалось, что в ней было множество книг конца прошлого и начала нынешнего столетия и вовсе не было книг более новых. И так как эта библиотека была для меня единственным источником чтения, то и случилось, что я не только не слыхал о Гоголе и Белинском, а даже Пушкина и Грибоедова читал уже после, уже когда перебрался в Петербург. Я весь был погружен в книги первых и десятых годов нашего столетия и бродя среди берез и малиновых кустов монастырского сада, я перечитал этих книг великое множество. Моими светилами и образцами были Ломоносов 4 , Державин 5 и Карамзин. В стихах я подражал Державину, но истинным моим любимцем, моею отрадою и утешением, властителем моих дум и чувств был, конечно и разумеется, -- Карамзин.
С какою жадностию я читал и перечитывал его "Вестник Европы"! Уверяю вас, что ни одна книжка нового "Вестника Европы", издаваемого под редакциею г. Стасюлевича, не возбуждала во мне и тени того восторга, с каким я поглощал напечатанные на пухлой синеватой бумаге книжки Карамзинского журнала. "Письма русского Путешественника" действовали на меня как самая животрепещущая новость; "Марфа Посадница" была недосягаемым образцом поэзии, благозвучия, красноречия; первый том "Истории Государства Российского" я знал почти наизусть. Словом, Карамзин на меня действовал так, как будто я был его современником; я могу сказать, что пережил, перечувствовал на себе самом переворот, совершенный им в русской словесности, то невыразимое обаяние, которым этот великий писатель некогда покорил себе все умы и сердца. Осмелюсь ли сослаться на мои литературные труды? Внимательный читатель найдет в них некоторый, хотя слабый отблеск Карамзинского изящества и Карамзинской мягкости; и если силы мои ничтожны, объем моих писаний микроскопический и успех самый незначительный, то все-таки этим успехом я обязан стремлению уподобиться Карамзину плавностию слога и нежностию чувствований, а не какому-то моему ехидству, на котором столь упорно настаивали иные журналы и особенно один мой покойный приятель.
Не стану вам рассказывать о моей дальнейшей судьбе, о моих ученых занятиях, о долгих моих размышлениях, об изумительном зрелище воздушной революции, которой я был очевидцем, и о том жестоком недоумении и неудовольствии, в которое я был повергнут этим зрелищем. Все это отложу до другого времени; но уже из сказанного вы можете понимать, какую горечь должны были возбудить во мне так называемые нигилистические взгляды на нашу литературу, можете чувствовать, какою горячею кровью обливалось мое сердце при каждой дерзкой выходке, касавшейся Карамзина, этого светила моей юности, этого идола моих незабвенных и невинных отроческих лет.
И наконец мера переполнилась. В сентябрьской книжке "Вестника Европы" явилась огромная статья г. Пыпина 6 "Очерки общественного движения при Александре I. IV. Карамзин. Записка "О древней и новой России"". Стр. 170--248), в которой подробно и пространно осуждается деятельность Карамзина и доказывается, что она имела самое зловредное влияние на судьбы России.
Карамзин -- вреден! Карамзин -- зло в нашем развитии, язва в нашей литературе, тормоз в нашем общественном движении! Остановитесь, милостивый государь, на этой мысли, вдумайтесь в нее, вглядитесь, измерьте всю чудовищность ее смысла, весь ужас, который она в себе заключает. Если Карамзин вреден, то кто же может быть полезен? Если труд души и сердца Карамзина были злом и бедствием, то кто же может льстить себя надеждою, что он трудится во благо? Если Карамзин действовал против интересов России, то кто имеет право сказать, что работает для ее пользы? Не господин ли Пыпин? Вижу, очень хорошо вижу, что он так о себе думает, но после того, что случилось с Карамзиным, не верю, не могу верить, не хочу верить! Что такое г. Пыпин? Кому и в чем он может служить примером? Я знать не хочу г. Пыпина! Если человек столь возвышенной души, такого изумительного таланта, как Карамзин, не сумел найти надлежащего пути и всю жизнь с величайшим благодушием и чистою совестью наносил вред своему отечеству, то каких глупостей и мерзостей (разумеется, бессознательных) я не могу ждать от г. Пыпина, который, может быть, и почтенный человек, но во всяком случае далек от Карамзина как земля от неба? Если суд г. Пыпина над Карамзиным справедлив, то во сколько раз более жестокого суда должен ожидать от потомства сам г. Пыпин? Не будет ли его статья клеймом позора для его имени? В невинности души своей г. Пыпин не задает себе этого страшного вопроса; беспечно и самоуверенно он играет в отношении к Карамзину роль беспристрастного потомства; он забывает -- несчастный и наивный человек -- что он тоже сидит на скамье подсудимых и что с него взыщется тем строже, чем выше сияет та слава, до венца которой он тянется своею дерзкою рукою!
Карамзин вреден! Но стоит ли после этого жить и писать? Когда подобный приговор составляет награду писателя столь знаменитого, то как не приходят в отчаяние все писатели? На что трудиться мне, г. Пыпину и всем? На что писали наши предшественники? На что будут писать наши преемники? 7 Нет, г. Пыпин, тут что-нибудь да не так; нет, вы чего-нибудь не сообразили, ибо из вашего заключения следовало бы, что вообще вредна литература, или по крайней мере, что русская литература до сих пор была злом для русского народа. Такая кощунственная мысль, вероятно, нравится г. Пыпину; но берегитесь, смелые и дерзкие люди! Есть граница, за которой смелость свидетельствует только о тупоумии, и дерзость доказывает, что человек не способен ценить и понимать того, о чем судит.
О, моя бедная Россия! О, мое несчастное отечество! Сколько раз я погружался в тяжелые размышления о судьбе твоей; сколько раз я лил горестные слезы при мысли об испытаниях, тобою перенесенных, о безмерно-трудном пути твоего развития! Но особенно поражал меня тот страшный гнет, который тяготеет над твоею нравственною и умственною жизнью; особенно чувствительна была для меня та мрачная сила, которая давит твои высокие умы, твои великие таланты. Часто я спрашивал себя: Каким образом возможна у нас история, поэзия, литература? Как они могли явиться при столь неблагоприятных условиях? Казалось бы, русская жизнь должна порождать одних Пыпиных, а между тем у нас есть Карамзин! Казалось бы, все наши поэты должны были походить на г. Минаева 8 , а между тем у нас есть Пушкин! Казалось бы, вся наша литература должна состоять из бесчисленных Решетниковых 9 , Щедриных 10 , а между тем у нас есть Лев Толстой 11 . О, я понимаю то великое озлобление, которое царствует в известных кружках против каждого светлого явления в нашем умственном и литературном развитии! Я понимаю, что каждое такое явление эти люди должны считать незаконным, неестественным, противоречащим их заветнейшему убеждению! И когда я подумаю о том, что это убеждение столь разительно опровергается фактами, что мы имеем литературу при таких условиях, при которых, по-видимому, никакая литература невозможна , то я начинаю радоваться, начинаю смеяться над нелепыми рассуждениями наших новейших историков, начинаю думать, что история есть дело таинственное и трудно постижимое, укрепляюсь все больше и больше в той утешительной мысли, что жизнь немножко глубже, чем как понимает ее г. Пыпин.
Тень Карамзина! Тебя призываю на помощь! Подкрепи меня тою великою верою, которою я некогда питался в твоих бессмертных произведениях!
Начинаю с начала. Каким образом возможно самое появление Карамзина? Если мы послушаем наших новейших историков, то должны будем сказать, что это был какой-то урод или сумасшедший, а отнюдь не произведение исторических обстоятельств того времени. Представьте себе картину тогдашней России так, как ее изображают нынешние наши историки, столь беспристрастные и проницательные. Всюду -- зло и мерзость; помещики -- изверги, крестьяне -- стада диких животных; господство грубой силы, разврата, азиатского абсолютизма. И вдруг является Карамзин. "Все условия жизни, -- говорит г. Пыпин, -- условия, создавшиеся целыми десятками и сотнями лет, делали невозможною добродетель" (с. 234). Кажется, ясно? И однако же -- вдруг является человек добродетельный. Является человек, кроткий как голубь, нежный и чувствительный, стыдливый как девица. Я радуюсь, а г. Пыпин негодует и недоумевает. Я преклоняюсь перед таинственною глубиною жизни, готовящей обновление русской литературы; г. Пыпин возмущается и злобно издевается. По его мнению, законными, уместными, правильными явлениями тогдашнего времени были какие-нибудь злодеи, разбойники, Пугачевы; Карамзин же с его голубиного нежностию ему кажется явным уродом, родившимся для того, чтобы задержать исторический ход нашего развития.
Затем следует рассмотреть воспитание Карамзина. Он попадает в масонский кружок, он делается ревностным поклонником Руссо 12 и Вольтера 13 . Какая опасность, если возьмет силу одно или другое влияние! Если бы Карамзин подчинился масонскому мистицизму, из него вышел бы какой-нибудь Лабзин 14 . Г. Пыпин уверяет, что масонство имело неизгладимое влияние на Карамзина. Неправда! Карамзин ему не поддался, и в этом состоит великий, хотя, по мнению г. Пыпина, совершенно неправильный факт. Точно так же было бы дурно, если бы Карамзин подчинился известным сторонам учений Руссо и Вольтера. Из него мог бы выйти второй Радищев 15 или нечто вроде Пыпина того времени. По счастию, этого не случилось: из своего воспитания Карамзин вышел самим собою. Я радуюсь, а г. Пыпин сердится и удивляется.
Но вот Карамзин едет путешествовать. При тогдашних обстоятельствах какая это была огромная опасность! С его идеями, с его увлечением французскою литературою, с пламенной любовью к человечеству -- что будет делать Карамзин, попавши во Францию? Он забудет свою родину, станет чем-нибудь вроде Герцена 16 , будет участвовать в журнале какого-нибудь тогдашнего Пруд она " и предастся всем волнениям революции. Прощай, новый период в русской литературе, прощай, "История государства Российского"! Мы знаем, что политическое движение Франции не осталось без влияния на Карамзина. "Робеспьер 18 , -- свидетельствует Н. И. Тургенев 19 , -- внушал Карамзину чуть не поклонение. Его друзья рассказывали, что при известии о смерти страшного трибуна он пролил слезы; в старости он еще говорил о нем с уважением, удивляясь его бескорыстию, серьезности и твердости его характера, и даже его скромному костюму, который, по словам его, был контрастом костюму людей того времени" 20 (La Russie etc.) 21 . Что было бы, если бы это увлечение было сильнее и охватило бы Карамзина тогда, когда он был во Франции? Какое счастье, что этого не случилось! Юный Карамзин посмотрел на события революции с такой точки зрения, что они не покорили вполне его души. Карамзин, как уверяет г. Пыпин, вовсе не понял этих великих событий. И Карамзин возвращается. Карамзин спешит домой. Какое благополучие. Я радуюсь всей душою, а г. Пыпин негодует. Г. Пыпин думает, что в этом случае Карамзин был глуп; я мог бы, однако же, доказать, что глупость не на стороне Карамзина, что смысл французской революции, о которой теперь так свободно рассуждает г. Пыпин, был величайшею неожиданностью не только для человека чужого, а и для самой Франции. "Кто мог думать, ожидать, предвидеть?" -- писал впоследствии Карамзин, -- и это было не реторическою фразою, как, вероятно, полагает г. Пыпин, а чистою правдою. История есть нечто таинственное и не совершается столь просто, как думает г. Пыпин. Во всяком случае я рад, что чреватая бурями тайна не увлекла нашего Карамзина. Г. Пыпин в укоре Карамзину указывает на некоторого И. В. Лопухина 22 , который будто бы отлично понимал смысл тогдашних событий. Пусть так; честь и слава И. В. Лопухину! Поставьте ему памятник! Но ради Бога, оставьте мне моего Карамзин и позвольте мне радоваться, что из него не вышел И. В. Лопухин!
О, неразумные историки! О, славные толкователи прошедшего! Как же вы не видите, что совершалось в душе Карамзина и что помешало ему сочувствовать революции? Карамзин думал о своем образовании, Карамзин в ту самую пору, о которой идет речь, преобразовывал наш слог своими письмами, Карамзин уже мечтал о своей истории! А главное, существенное, непобедимое препятствие состояло в том, что Карамзин всей душою был в России, не покидал ее мыслью ни на минуту, весь жил воспоминаниями своей родины, своего детства, своих друзей. Что же дивного, что он смотрел на революцию невнимательно, видел вещи в розовом свете, и лишь впоследствии понял истинный смысл виденного?
Карамзин был сыном екатерининского века -- вот настоящая разгадка его судьбы и душевного склада. Он был сын славного, счастливого времени и потому был консерватор и не был расположен к раздору с окружающим, к событиям кровавым и мрачным. Карамзин такой же плод екатерининской эпохи, как Пушкин плод эпохи двенадцатого года. Если бы величие этих эпох не поразило блеском души этих отроков, то, может быть, у них не было бы той веры в себя, той веры в Россию, при которой только и была возможна их деятельность. Если бы для Карамзина не было делом несомненным, что Россия была счастлива во время его юности, то он иначе смотрел бы на ее историю и едва ли бы сделал из этой истории цель всей своей жизни. Если бы величие России было для Пушкина только чаянием и предположением, если бы оно не было для него самой животрепещущей очевидностью, то он едва ли бы мог верить, что он сам великий поэт, и не слыхать бы нам его дивных песен. Не могу подумать без радости об этих причинах и об их результатах.
Относительно Пушкина вам известны, милостивый государь, сомнения и недоумения наших либералистов. С раздражением и злобою смотрят они на это великое явление русской жизни. Подумайте, говорят они, какие были времена, какое общество, какое положение дел? Ну, время ли было воспевать любовь и сочинять поэмы? Каких он женщин воспевал? Каких женщин могла произвести тогдашняя жизнь? Возможно ли было любить красавиц, не имеющих никакого понятия о книжке Милля 23 , так как она появилась значительно позднее? Такими и подобными вопросами без конца осаждают память нашего незабвенного поэта и без конца злобствуют и издеваются над ним. А я, милостивый государь, чем больше слышу подобных вопросов, тем больше радуюсь, тем пламеннее благоговею перед таинствами нашей судьбы. О, как хорошо, что заяц перебежал дорогу Пушкину и что наш поэт не попал в число декабристов! О, как чудесно, что Пушкин не был повешен или сослан в Сибирь! Какое благополучие, что его великая душа могла упиться восторгом в одну из великих минут России и потом навсегда сохранила в себе отблеск этого восторга! Какое счастье, что его прекрасное сердце не иссохло, не изныло и разорвалось так поздно, на тридцать восьмом году! Была, значит, в русской жизни некоторая доля бодрости, силы, веры, красоты, гармонии, любви... И вот мы имеем теперь песни -- бессмертные песни! Мы имеем поэзию, имеем литературу! Пусть негодуют на все это Пыпины, сколько их ни есть, -- я всегда буду этому радоваться.
Но обратимся к Карамзину. Первое и огромное его дело состояло в преобразовании русского слога. Г. Пыпин смотрит на это дело с высочайшим высокомерием. Он смеется над слогом Карамзина, называя его медовым стилем (с. 195); он признает литературные заслуги Карамзина, но тщательно оговаривается, что это были заслуги для того времени; вообще же он полагает, что теперь чисто литературная сторона дела уже потеряла свой интерес (с. 171). Напрасно! Знает ли господин Пыпин, что он сам пишет весьма несовершенным слогом, таким слогом, который лишь в очень слабой степени отражает в себе карамзинское преобразование, не содержит и сотой доли достоинств Карамзинского слога? Слог у г. Пыпина тощий, неповоротливый, лишенный течения, чуждый разнообразия и меткости, исполненный напыщенности самой прозаической, канцелярской, загроможденной оборотами и выражениями казеннейшими. А между тем ведь слог есть выражение души писателя. Что значит ввести новый слог, как это сделал Карамзин? Ведь это значит заговорить новым языком, то есть открыть, создать новую сферу мыслей и чувствований. Писатели, кажется, должны бы ясно понимать, в чем тут дело. Пусть люди грубые и невежественные полагают, что можно сочинять умные мысли и прекрасные чувства: пусть г. Пыпин многократно уверяет, что чувствительность и нежность, которыми Карамзин преобразовал русскую литературу, существовали только в книжке, на бумаге. Кому случилось в жизни написать хоть одну страницу, достойную имени литературного произведения, тот знает, что, создавая эту страницу, он клал свою душу на бумагу, изливал на бумагу свое сердце; иначе ничего бы не вышло, или вышло бы нечто такое, что обличило бы лишь кривляющуюся пустоту и напрягающуюся глупость писавшего. Повторяю -- слог есть выражение души писателя. Карамзин преобразовал русскую литературу своею душою.
Когда я представляю себе Карамзина, возвратившегося из путешествия, когда воображу себе этого удивительного юношу, в котором тогда воплотилась наша литература, я не нахожу меры своему восхищению. Это было зрелище очаровательное, ослепляющее; это было чудо едва постижимое. Вот человек, который посетил чужие край -- и однако же любит свою родину прежнею пламенною любовью; он беседовал с первыми умами Европы -- и однако же умственные интересы Москвы имеют для него ту же кровную драгоценность; он украшен всею глубиною и тонкостию тогдашнего образования, и однако же он вполне русский, русский до мозга костей. Какова сила, каково притяжение русской жизни! Какая способность взять у Запада много, очень много -- и не отдать ему ничего заветного! Душа моя наполняется умилением, несмотря на все вопли негодования, издаваемые нашими либералистами.
О, как бы я желал, чтобы эту минуту русской литературы; описало перо не столь слабое, как мое, чтобы кто-нибудь изобразил ее с красноречием вполне достойным! Карамзин заговорил, Карамзин стал писать -- это значит: он стал изливать свою душу бесчисленными волнами, свободными, сильными, неиссяякающими. Что за диво, что за восторг! О чем ни заговорит Карамзин, все выходит прекрасно. А он говорит обо всем, не выбирая, не сочиняя предметов; он говорит о своих приятелях, о своих прогулках, о Москве, о Париже, о каждом своем мимолетном чувстве, о каждой мысли, шутке, слезе, вздохе. Он весь открыт, он весь наружу, и он весь красота, весь поэзия, весь изящество. Россия ахнула. Россия изумилась и залюбовалась без конца и без меры. Так вот что значит поэзия? Так вот что значит литература? А мы думали, что поэзия есть редкий гость на земле; мы и не знали, что есть целый мир прелести в том, что нас окружает, что мы видим и делаем ежедневно. Да после этого и русская история, эта дикая и чуждая нам история, пожалуй, может оказаться любопытною, занимательною, даже величественною!
Вот, милостивый государь, тот смысл, который имело преобразование русского слога, совершенное Карамзиным; это было преобразование понятий, безмерное расширение области слова и мысли, ясное, блистательное откровение возможности целой литературы там, где ее еще не было, где только изредка, как лучи солнца сквозь темные облака, сияли восторгом песнопения Ломоносова, Державина. Совершить такое дело можно было только душою невообразимо чуткою ко всему истинно человеческому и поэтическому; Карамзин больше, чем кто-нибудь, доказывает своею деятельностью, что прекрасный слог есть выражение прекрасной души.
Спешу оторваться от этой восхитительной картины, от этих отрадных мыслей, с тем чтобы перебрать другие существенные пункты, которых касается г. Пыпин. Он долго останавливается на "Похвальном слове Екатерине II" 24 и жестоко негодует на восторженный тон как этого Слова, так и статей по общественным вопросам, писанных Карамзиным в первые годы царствования Александра I. Г. Пыпин называет этот тон приторно-льстивым (с. 202); "перечитывая эти тирады, -- говорит он несколько выше, -- наконец утомляешься этим тоном лести, преклонения и восторга" (с. 201). Лесть! Приторная лесть! Но отчего же лесть, милостивый государь? Какое право имеет г. Пыпин поступать здесь так, как он и везде поступает по отношению к Карамзину, а именно -- истолковывать все его слова и действия в дурную сторону? Разве Карамзин подал к этому хотя малейший повод? Если бы мне сказали, что г. Пыпин сделал глупость или подлость, то и тогда я не считал бы себя правым, злорадно поверивши первому слуху. Во сколько же раз виноватее г. Пыпин, постоянно подкладывающий под слова и действия Карамзина побуждения подлые и низкие? Г. Пыпин обходится с Карамзиным так, как я никогда не решусь обойтись даже с г. Пыпиным.
Царствование Екатерины II, взятое в целом, и первые годы царствования Александра I были временами, когда по России проносилось веяние радости, когда наше государство жило некоторым восторгом. Карамзин был одним из выразителей этого восторга. Вот ясное и простое дело. Чем же виноват наш великий писатель? Не кривит ли умом всякий, кто скажет, что Карамзин кривил душой?
Мы знаем, что современные либералисты находят этот восторг диким, нелепым и вредным; с неописанной злобою смотрят они на всех, кто его испытывал, и осыпают их ругательствами как хранителей и поборников зла, застоя и ретроградства; словом, либералисты желали бы, чтобы этот восторг вовсе не существовал, чтобы на всем протяжении нашей истории не было для русского народа ни одной минуты самодовольства, гордости, радости. Ибо гордиться, говорят они, могли только дураки и радоваться только подлецы.
Не знаю, насколько позволительно и полезно желать, чтобы не было того, что уже было; в этом вопросе сеть глубина, смущающая мою философию. Позволю себе, однако же, выразить свое посильное мнение. Признаюсь, я нахожу весьма приятным, что мироздание имеет некоторую прочность, некоторую устойчивость, что если люди имеют возможность делать глупости в настоящем, могут в своих мечтах и планах вертеть по-своему будущим, то они по крайней мере не могут изменить прошедшего. Эта неизменность прошедшего часто внушает мне пламенную благодарность Провидению, столь мудро устроившему мир. Среди тревог настоящего, среди опасений за будущее, что было бы с нами, если бы и наше прошедшее было делом сомнительным и ненадежным? Но, по счастию, славные подвиги, великие мужи, счастливые времена -- навеки безопасны, коль скоро они прошли. Представьте себе, милостивый государь, что было бы, если бы русская история находилась в некоторой власти г. Пыпина, г. Стасюлевича 25 и им подобных историков. Сердце сжимается от жалости при одной мысли об этом бедствии. Тогда -- прощай все то, чем мы любуемся и гордимся; ибо гордость и любование должны быть уничтожены в наших сердцах как вещи вредные. Тогда Пушкина не было бы, Карамзина не было бы; вместо Державина при Екатерине явился бы г. Некрасов 26 и обличал бы тогдашним языком тогдашний Невский проспект; тогда французы, приходившие в Москву в 1812 году, погибли бы не так, как рассказывает гр. Лев Толстой, а только и исключительно от мороза, как этого желают новейшие фельетонисты; тогда самой Москвы не существовало бы; тогда... Но я останавливаюсь; мысль эта, очевидно, способна к бесчисленным вариациям, она чревата множеством образов; но в каких бы формах они ни воплотилась -- она ужасна, она невыносима!
Душе чувствительной особенно противны те желания, которые направляются против благополучия людей, которые видят зло в восторге, одушевляющем целый народ и целое государство, которые посягают на самый дух жизни, столь крепкий, столь бодрый, столь могучий в русском народе. Этот народ способен к удивительному энтузиазму -- источнику великих дел, главному нерву исторического развития, корню всякой поэзии, всякой жизни. Немало зла существовало и во времена Екатерины и в первые годы царствования Александра; но рядом с этим злом по жилам народа текла сладостная струя гордости, надежды, славы; ужели не безумно и дико смотреть с укоризною и злорадством на это обилие веры, на это чувство силы и счастия, тем более отрадное, чем тяжелее были условия, в которых оно жило и появлялось в великих деяниях, в великих писателях? Следовало бы радостно задумываться над этой поистине завидной судьбою, а не порицать тех, кому она выпала на долю. Господину Пыпину непонятен восторг Карамзина; но отсюда отнюдь не следует, что Карамзин дурак и льстец, а следует... что понятия г. Пыпина извращены и ограничены.
Перехожу теперь к главному предмету статьи г. Пыпина, к "Записке о старой и новой России" 27 . Суждение, которое мы составили себе об этой "Записке", чрезвычайно просто. Карамзина невозможно назвать политиком ни в каком смысле этого слова. Он не имел никакой системы политических убеждений, никакой теории, никакого связного и цельного взгляда. Равным образом он не способен был и к практической политике, не умел применяться к обстоятельствам и писать и говорить Сообразно с ними для достижения заранее предположенной цели. Все это как нельзя яснее выразилось в его "Записке", и всему этому я от души радуюсь. "Записка" не имела и не могла иметь успеха, да и нельзя не видеть, что она не содержала никаких положительных и ясных требований. Как это характеристично и как этому можно порадоваться! При своем огромном чтении и образовании не поразительно ли, что Карамзин не нашел во всех европейских литературах таких юридических и политических понятий, к которым мог бы примкнуть всей душою? Какая душевная чуткость обнаруживается в этом отвержении всего, что не было и не могло быть сродно с русскою жизнью! Во сколько раз в этом случае Карамзин выше Сперанского 28 , который без раздумья и колебания отдался французской системе!
Карамзин руководится в своей Записке не какими-либо отвлеченными понятиями, определенными целями, а только живым инстинктом, только сильным, хотя неясным сознанием положения своего народа, непосредственным чувством, и он указывает не на то, что следует делать, а только на то, чего делать не следует. Это превосходный пример того консерватизма, который принадлежит к самой сущности всякой жизни. Живое не дает себя резать безнаказанно; живое дает под ножом кровь и испускает крики. Такое явление очень досадно многим умным людям, но я нахожу его прекрасным и думаю, что было бы хуже, если бы жизнь не чинила никакого отпора этим умникам. Как человек, которого жизнь тончайшими нервами связывалась с жизнью народа, Карамзин оказался упорным консерватором и ничем другим он и не мог оказаться. Три пункта указывает и подробно разбирает г. Пыпин, в которых обнаружился консерватизм Карамзина. Карамзин был защитником правительственного абсолютизма, был противником освобождения крестьян и впоследствии точно так же -- противником освобождения Польши.
Слава нынешнему царствованию! Слава государю Александру И! Теперь мы можем говорить об этих вопросах и можем спокойно рассматривать их не как гнетущее нас самих зло, а как тяготу исторического развития, некогда перенесенную нашими предками. Крепостное право уничтожено, Польша в значительной степени умиротворена, правительственный абсолютизм ослаблен в своей излишней и напрасной тяжести, и ему предназначено все яснее и яснее ограничивать себя сферою, где он истинно-благодетелен и неприкосновенно-ненарушим.
Если теперь мы спросим себя, прав ли был Карамзин в своем консерватизме, то должны будем подивиться необычайной верности, с которой русское сердце подсказало ему, что в планах Александра 1-го не было ничего прочного, ничего истинно живучего и что, следовательно, они ни к чему не могли бы привести, кроме зла. Относительно Польши мы теперь знаем, что планы Александровы были противны нашим интересам государственным и народным, мы убедились историею, что Карамзин смотрел на Польшу глубоко-верно. "Сыновья наши, -- говорил он, -- обагрят своею кровью землю Польскую и снова возьмут штурмом Прагу!" {Неизданные сочинения Н. М. Карамзина. СПб., 1862. Ч. 1. С. 7.} Так это и было. Относительно крепостного права и абсолютизма Александр I не исполнил своих предначертаний; но нет сомнения, что если бы он их исполнил, то навлек бы на Россию те дурные последствия, которые предсказывал ему Карамзин. Если бы крестьяне были освобождены не в нынешнее царствование, а тогда, при Александре I, то непременно были бы освобождены без земли. Вот было бы зло величайшее! Никто, и сам Карамзин не мог себе представить, чтобы дело могло произойти иначе, чтобы крестьян следовало наделить землею; таковы были тогдашние понятия, и нет никакого сомнения, что, конечно, такова была и мысль Александра I. Понятно, следовательно, упорство, с которым Карамзин противился столь для него ясному расстройству народной жизни, столь глубокой ране, которую готовились нанести государству. Точно так же, если бы Александр I ограничил правительственный абсолютизм (каковые пробы были отчасти совершаемы и в прежние царствования), то из этого, вероятно, не произошли бы действительные ограничения, а произошли бы одни смуты. И то и другое дело было делом невозможным, не представляло жизненных, крепких условий для своего успешного совершения и развития; Карамзин превосходно это чувствовал и высказал царю со смелостию, достойною русского гражданина.
Но оставим эти таинственные и трудные соображения. Неохотно и не без некоторого смущения касаюсь я предметов этого рода. Далекий от дел государственных, нередко я втайне благословляю свою смиренную долю, когда помыслю, в какое великое затруднение привели бы меня задачи, с коими другие обращаются легко, отважно, не задумываясь. Итак, оставим государственные соображения и не будем на них настаивать. Положим, что в сем случае и Карамзин взялся за дело ему несродное и несвойственное. Представим, что если бы на месте Карамзина был г. Пыпин, то он дал бы Александру I советы несравненно основательнейшие, несравненно сообразнейшие с тогдашними потребностями и пользами нашего отечества. Подобная мысль, как ни странно это вам покажется, еще не содержит в себе ничего для меня убийственного и несносно-горького.
Но г. Пыпин простирает свое осуждение на предметы гораздо более дорогие для всякого сердца, любящего добро. Г. Пыпин порицает в Карамзине не просто государственного мужа, но человека; он порицает личный характер бессмертного писателя, он сомневается в благородстве чувств этого чистейшего и прекраснейшего из людей. Вот, милостивый государь, ужасное обвинение, вот мысль, способная привести душу чувствительную в отчаяние за род человеческий. Г. Пыпин уверяет нас, как мы видели, что Карамзин был льстецом по отношению к верховной власти; что же касается до народа, то, по словам г. Пыпина, Карамзин смотрел на него "с брезгливостью помещика, считавшего, что крестьяне принадлежат к другой породе" (с. 228); Карамзин будто бы любил и одобрял "торговлю людьми, как собаками" (с. 229); у Карамзина "парни женились и девки выходили замуж по барскому приказанию" (с. 229); словом, он был заражен "самым дюжинным крепостничеством" (с. 225) и его чувства в этом отношении "граничили с совершенным бессердечием" (с. 227).
Бессердечие Карамзина] Вот одно из блистательных открытий, совершаемых новою историческою наукою, при помощи новых методов и усовершенствованных приемов. И суровая душа г. Пыпина не содрогается! И нам не страшно за себя, за наших потомков, за лучшие помыслы души человеческой, за святейшие упования нашего сердца! И никто не проливает слез, никто не оплакивает ничтожества человеческой натуры, ее безмерно жалкого жребия! Карамзин был человек бессердечный! Слыхали ли вы что-нибудь ужаснее этих слов? Да пребудут они вечным памятником бессердечия того, кто их произнес!
Но сдержим свое волнение, укротим невольные порывы чувств и разберем дело, если возможно, с хладнокровным рассуждением. На чем основывает свои выводы г. Пыпин? Единственно и исключительно на том, что Карамзин не желал отмены крепостного права. Какое нелогическое заключение! Какое явное невежество в механизме пружин человеческих действий и в свойствах души человеческой! Из того, что Карамзин защищал крепостное право, не только не следует, что он был дурной помещик, а напротив, должно быть выведено, как несомненное следствие, что он был помещик прекраснейший и человеколюбивейший, почему и не видел зла в крепостном праве.
Сия мысль достойна рассмотрения более внимательного. Крепостное право есть вздор в сравнении с вечностию -- таково мое мнение, утвержденное во мне долгими размышлениями. И всякая мудрость человеческая есть вздор в сравнении с тайнами мира и человека; даже мудрость г. Пыпина, гордящегося тем, что он усматривает зло в крепостном праве, мне кажется, составляет слабое возражение против ничтожности человеческого разумения. Но благородство души человеческой не есть вздор ни в каком случае, ни в каком сравнении. И потому вот где истинное мерило жизни и руководящая нить наших суждений. Что Карамзин был помещик и заблуждался -- это еще небольшое горе, если бы мы узнали; но истинное было бы горе, если бы мы узнали, что он был действительно человек бессердечный. По счастию, его нравственный характер есть незыблемая истина, и свет этой истины нам озаряет дело гораздо яснее, чем вся ученость г. Пыпина.
Если Карамзин был помещик, то, значит, были хорошие помещики: вот вывод столь же строгий, как Эвклидовы заключения. Если были хорошие помещики, то, значит, крепостное право не было тяжко везде и всегда -- вот несомненное рассуждение. Если Карамзин стоял за крепостное право, то это свидетельствует не против Карамзина, а только и единственно в пользу крепостного права.
Какое отрадное соображение! Как приятно себе представить, что столь великое и страшное зло, как крепостное право, было смягчаемо людскою добротою, было облегчаемо, доводимо до нуля усилиями людских сердец! Человеческая природа не только мирилась с этим злом, -- она брала верх над ним! Я вижу, что это очень досадно г. Пыпину, но не могу понять, что неприятного может в этом найти истинно-добрый человек. О, бедная Россия! Твои доброжелатели не хотят простить тебе ни единой минуты облегчения, негодуют на каждый светлый час, который умела добывать себе твоя широкая душа среди тяжкой работы твоего развития. Можно подумать, что для этих нежных человеколюбцев каждый мужик, который вздумает запеть и пошутить, составляет предмет непритворного отвращения!
Мне приятно думать, что антагонизм между помещиками и крестьянами не доходил до крайностей, а по местам и вовсе не существовал, что он не выродился в вековую, непримиримую, неизгладимую вражду, что крепостное право есть зло, не испортившее до конца внутреннего склада нашего государства, что при уничтожении крепостничества помещики оказались действительно великодушными и крестьяне действительно незлопамятными, что в силу всего этого слияние сословий у нас не одна мечта, а дело возможное и оказывающее успехи -- все это мне приятно думать, и для всего этого я нахожу одно из блистательнейших доказательств в том факте, что благодушнейший и гуманнейший Карамзин столь легко мирился с крепостным правом. Мысль Н. Я. Данилевского 29 , что это право было злом ничтожным сравнительно с феодальным рабством и что, следовательно, Россия развивалась в условиях менее тяжких, чем Западная Европа, а потому может и вперед ждать более здорового развития -- эта мысль мне кажется и справедливою, и утешительною. А когда я подумаю о том, как умеют иногда русские сердца нести возложенные на них тягости, как легко они подымаются выше временных обстоятельств, то мысль о Карамзине и его крестьянах не только теряет для меня всякую тень неприятности, но даже приводит меня в совершенное умиление.
Но что мы слышим? Г. Пыпин старается фактами доказать, что Карамзин был помещик недобрый; г. Пыпин так уверен в этом заранее, что не находит ни малейшего затруднения подтвердить свою мысль печатными свидетельствами. Посмотрим на эту новую историческую мудрость, ниспровергающую наши заветнейшие убеждения. Г. Пыпин вообще касается дела легко и небрежно, как будто оно само собою разумеется; есть, однако же, у него факт, и притом единственный, который, по-видимому прямо и ясно свидетельствует против Карамзина. Г. Пыпин утверждает, что у поселян, подвластных нашему знаменитому писателю, не могло быть нежных подруг, коих Карамзин некогда приписывал им в своих сочинениях, ибо-де у Карамзина "парни женились по барскому приказанию, -- хотя бывали примеры, что против этих мероприятий крестьяне восставали "миром" -- вероятно, не без причины" (с. 229).
Скажу не хвалясь -- ни на одну минуту я не усомнился в Карамзине, не поверил поступку, столь противному всякой чувствительности и нежности. Пусть извинит меня г. Пыпин, но я тотчас, судя по свойствам его души, столь ясно выражающимся в его слоге, предположил, что он попал в жестокую бестолковщину, что он с легкомыслием, не делающим чести его сердцу, взвел на Карамзина небылицу. Я стал разыскивать и что же оказалось? Г. Пыпин, по невероятной сухости своей натуры, по неистовому ослеплению, порожденному сею сухостию, принял за жестокость Карамзина то, что было действием нежнейшей попечительности этого доброго помещика. Судите сами.
В селе Макателеме жил некогда молодой крестьянин Роман Осипов. Русые кудри вились на голове его, и серые глаза его блистали лукавством и смышленостию. Он воспылал страстию к дочери бывшего поверенного, Архипа Игнатьева, и собирался на ней жениться. Но крестьяне того села, озлобленные на юного любовника по причинам, о которых за отдаленностию времени мы, к сожалению, ничего не знаем, не только не хотели допустить сего брака, но и вознамерились отдать злополучного Романа в солдаты. Счастию любящихся сердец никогда бы не совершиться, если бы не доведал о том благодетельный помещик Макателема. И вот он пишет своему бурмистру Николаю Иванову и всему миру повеление: "приказываю вам непременно женить Романа на дочери Архиповой и не отдавать его в рекруты. 28 ноября 1820".
Так я понимаю эту историю; так она несомненно следует из документов, напечатанных у Погодина: 30 Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и пр. Часть II, с. 437 и 438. Приказ Карамзина, очевидно, имеет в виду благо Романа Осипова и кроме сей великодушной цели никакой иной иметь не может. В том же приказе за повелением об Романе Осипове следует повеление оставить в покое крестьян Миная Иванова, Акима Федорова и Федора Михайлова, коих невежественные обитатели Макателема обвиняли в порче, в том, что они будто бы делали женщин кликушами. "Это бабьи сказки и совершенный вздор", -- пишет просвещенный Карамзин. В следующем приказе любвеобильный помещик приказывает не отдавать в рекруты Алексия Ефимова, который подрался с тестем и откусил ему палец, и которого бурмистр крепко наказал, а мир сверх того приговорил отдать в солдаты. "Не приказываю, -- пишет Карамзин, -- ибо он уже был наказан". И так далее, и так далее.
Спрашивается, до какой степени должно доходить помрачение разума и оскудение сердец, чтобы без всякой причины истолковать в дурную сторону один из многих приказов, которые все сплошь показывают, что Карамзин своею властию боролся с жестоким миром села Макателема и защищал гонимых крестьян от тяжких приговоров мирского общества?
Вот она -- новейшая историческая критика! Вот она -- новая, более высокая точка зрения, которою похваляется г. Пы-пин в начале своей статьи! Эти новые воззрения ведут лишь к тому, что прогрессивный историк перестает понимать нежные движения сердца, прекраснейшие стороны человеческой души, что он смотрит в книгу, а видит фигу, что он... умолкаю от негодования и горести.
Приступим теперь к предмету наиболее важному, наиболее щекотливому. Приверженность Карамзина к правительственному абсолютизму истолковывается г. Пыпиным в самую дурную сторону. Карамзин является у него писателем льстивым, носившим лишь маску гражданской доблести, а втайне благоприятствовавшим вожделениям самовластия. Скажем опять -- какое непонимание чистых инстинктов души человеческой! Скажем опять -- приверженность к известному началу такой души, такого сердца, какие были у Карамзина, свидетельствует только в пользу этого начала. История должна записать на своих вековечных скрижалях: правительственный абсолютизм не был злом для России, не заключал в себе ничего неблагородного; ибо Карамзин жил при этом абсолютизме, Карамзин признавал его за благо. Россия, которая произвела Карамзина, дала тем самым непререкаемое свидетельство, что в ней были все условия для существования чистейшей гражданской доблести. Отношения между Карамзиным и Александром I -- суть типические отношения, в которых могут и в которых всегда должны стоять русский царь и русский подданный.
Дело здесь столь громкое, столь решительное, столь красноречивое, что сам г. Пыпин остановился в некотором минутном недоумении над речами и действиями Карамзина. По своим понятиям -- (превратно, но упорно заключает г. Пыпин) Карамзин не мог иметь гражданской доблести; но злорадный критик вынужден тотчас признать, что Карамзин словом и делом противоречил этим своим мнимым понятиям, то есть имел гражданскую доблесть! А мы прибавим, что противоречие существует только в голове и в понятиях самого г. Пыпина! "В "Записке о старой и новой России", -- рассказывает г. Пыпин, -- не раз Карамзин обращался к императору Александру со словами: "требуем", "хотим". Но что же дало вам право "требовать" чего-нибудь? -- можно было бы спросить его. Эта претензия есть еще одно из тех противоречий, которых мы уже немало видели в "Записке": по его же собственной теории добрым "россиянам" надо было только повиноваться" (с. 245).
Претензия! Какое презрительное слово! Так называет г. Пыпин то, что Карамзин считал своим святым правом и долгом, что он исполнял столь просто и столь твердо. Понятия Карамзина имели высоту, до которой не могут подняться многие ослепленные взоры. Лицом к лицу Карамзин так говорил императору Александру: "Мы все равны перед Богом; есть свобода, которой не может отнять у меня никакой тиран" {Неизданные сочинения Н. М. Карамзина. Ч. 1. С. 9.}. Вот тайна русского самодержавия, в силу которой его незыблемо хранит народ, которую одинаково чувствуют и самодержцы и подданные. Власть принадлежит царю, но честь и совесть, но мысль и нравственный суд не составляют предметов для власти и суть блага, на которые русские граждане никому и никогда не уступали прав сознательно. Случалось, конечно, что государи ошибались в значении своей силы; случалось также, что и подданные искажали понятия о своих отношениях к власти; но истинный смысл союза между царем и народом иногда обнаруживался во всей своей чистоте, и Карамзин принадлежит к числу блистательнейших примеров этого обнаружения. Если бы это был даже пример единственный, то и тогда он остался бы вечным свидетельством для грядущих веков и народов о чистоте и высоте идеи, стремившейся воплотиться в русских государственных формах. Не знаем, что будет, но то, что было, внушает русскому сердцу не одну горесть, а нередко и гордость радостную и справедливую!
Что скажем в заключение? Заговорим ли об "Истории государства Российского"? Но величие предмета изумляет меня и внушает мне дерзость безмолвия. Ужели и это дело, эта пирамида, воздвигнутая египетским трудом несравненного таланта, нуждается в какой-либо защите? Ужели нельзя отвечать одним презрением на все выходки, нельзя просто сказать, что ничто так разительно не обнаруживает скудости умственной и сердечной, как сомнение в пользе и величии "Истории государства Российского"?
Бессмертное, непостижимое дело! Нужна была гениальная прозорливость, чтобы угадать важность и силу государственного характера нашей истории; нужен был ум, бесконечно ясный и чуткий, чтобы понять, что точка зрения нравственная и художественная, то есть вековечная точка зрения, одна могла быть твердою опорою для создания нашей истории, что всякая иная точка зрения неминуемо увлекла бы историка во взгляды ложные и поверхностные. Но что я говорю? Столь высоких даров не нужно было, или правильнее -- нужно было сверх этих даров нечто большее, -- нужна была простота и чистота младенца, посрамляющая, как мы знаем, мудрость мудрых и разум разумных!
Что было бы с нами, если бы нашу историю до сих пор писали только наши мудрецы, мудрецы нынешние или мудрецы тогдашнего времени? Не могу помыслить без ужаса. Что было бы, если бы русскую историю написал Сперанский, который думал, как о том упоминает г. Пыпин, что на наше прошедшее можно взглянуть совсем иначе (с. 172)? Сперанский не изъяснил своей мысли подробнее, но мы можем хорошо ее угадывать. От Сперанского до г. Пыпина немало было людей, которые смотрели на русскую историю совсем иначе и пытались совсем иначе писать ее. Мы знаем, каким отвратительным слогом эти люди писали и пишут; для нас не тайна, отчего у них действительно все выходило совсем иначе, чем у Карамзина, а правильнее сказать до сих пор ровно ничего не выходит.
Когда я помыслю обо всем этом и все это соображу, то не знаю, дать ли мне свободный ток слезам умиления и восторга или же предаться пламенному негодованию на наше забывчивое и ветреное племя. Можно ли представить себе подвиг прекраснее подвига Карамзина? Если мы пишем теперь сколько-нибудь по-человечески, то обязаны этим Карамзину; если еще жива в нас вера в землю русскую, то в какой значительной, в какой огромной мере мы обязаны этим Карамзину! О, тайна славянских народов -- кто тебя постигнет? Каким образом в славянском духе -- злая едкость и твердая сила сочетаются с голубиною нежностию? Каким образом наша история, эта, по-видимому, мрачная и страшная история, была всего лучше постигнута человеком сердца беспредельно мягкого и чистого, души славянски-кроткой? Каким образом среди стольких жизненных противоречий -- этот чудесный человек мог стать образцом своего народа, совершить дела великие, незабвенные?
Он сам иногда задумывался, дивился самому себе. Найти прямой путь было столь же трудно, говорит он, как найти философский камень; но его несравненное сердце указало ему этот путь безошибочно! {"La religion de mon coeur m"a fait presque trouver la pierre philosophale" ("Моя сердечная вера позволила мне чуть ли не найти философский камень") -- из письма к жене. См.: Неизданные сочинения. Ч. 1. С. 166.}
Тень любезнейшая! С благоговением преклоняюсь пред тобою. Говоря о тебе, я во всем следовал тебе, великий учитель. Я судил Карамзина так, как его следует судить -- по началам Карамзинским! Всегда и во всем он был верен самому себе -- какая прекрасная похвала для души столь прекрасной!
И неужели ты будешь забыт? Сердце сжимается при мысли столь горестной и, однако же, столь вероятной. Вижу, как со всех сторон на тебя подымаются Пыпины бесчисленные. Седовласые старцы и юные студенты одинаково восстают на тебя -- и душа моя содрогается.
Но -- прочь малодушие! Никогда не поверю я, чтобы могла совершиться столь великая несправедливость, чтобы мироздание имело шаткость столь неразумную и нелепую, чтобы Россия, произведшая Карамзина, могла потом отупеть до непонимания и забвения его. Нет, все это шутки, вздор, дым. Дунет могучий ветер и унесет всю эту шелуху с лица земли русской. Не тебе, о, мой великий учитель, но врагам твоим предстоит участь плачевная и жалкая. Ибо для людей, желающих быть умными, что может быть плачевнее доказательства, что они не умеют понимать великого? Для людей, желающих быть славными, что может быть позорнее того, что они хулят вещи, достойные похвал и восторгов?
Участь г. Пыпина уже давно меня трогает. Давно уже я слежу за ним, так как он с чрезвычайным усердием и большою ученостию занимается литературой и ее историей, -- предметами от юности для меня любезными. Странная и поистине горькая судьба! За какой бы предмет ни взялся г. Пыпин, какую бы книжку, самую редкую и многозначительную, даже наистрожайше запрещенную, он ни стал рассматривать (желая сделать из нее журнальную статью), всегда повторяется одна и та же история. Всегда сущность дела, истинный интерес и главный смысл книжки ускользает из рук, проходит сквозь пальцы г. Пыпина и оставляет ему одну пустую шелуху, сор и грязь исторических случайностей, пыль и паутину веков. С презрением отряхает г. Пыпин эту дрянь со своих либеральных пальцев и хватается за новый предмет, за новую книжку; но увы! с ними повторяется то же, что было с прежними. Вот уже многие годы продолжается эта работа; весь в пыли и грязи сидит г. Пыпин и все еще не отчаивается, все еще думает, что дело делает. И будет он так думать и действовать до конца дней своих. И составит он себе из этой пыли и грязи пьедестал, на котором будет гордо красоваться. Обругать Карамзина! Какая слава! Какая судьба! Какая участь! Поистине могу сказать, что не завидую этому жребию!
Вот и теперь -- живо представляю я себе впечатление, которое должно произвести мое настоящее письмо на г. Пыпина. Он, конечно, не обратит ни малейшего внимания на мои рассуждения и останется глух к их смыслу. Я предчувствую, что он, его редактор и все сотрудники "Вестника Европы" будут думать прежде всего об одном -- нет ли в письме моем доноса? Нельзя ли так истолковать какую-нибудь фразу, чтобы вышел донос? Это они сделают не потому, чтобы они боялись доносов, а потому, что для их гуманного сердца всегда чрезвычайно приятно обозвать своего противника доносчиком. И так досадуйте же и злобствуйте, мои любезные противники! Доносов у меня не найдете, да и вообще замечу, что вам нечего плакаться на судьбу, нечего предаваться этому занятию, слаще которого для вас ничего нет на свете. С вашей точки зрения вы должны быть довольны, должны гордиться и радоваться.
Ну, что значит мое письмо? Г. Пыпин может считать его за шутку от первой строчки до последней. Мы все шутим, у нас все шутки! Статьи г. Пыпина, на мой взгляд, тоже чистейшие шутки. Даже целый "Вестник Европы" есть ничто иное, как огромная шутка, ежегодно издаваемая в двенадцати толстых томах, -- шутка над русскою литературою, над русскою историею, над памятью Карамзина, имени которого посвящен сей журнал. Мы резвимся и играем -- кто как умеет, кто во что горазд, кто в европейскую цивилизацию, кто в русскую народность! А жизнь и история между тем идут своим чередом, и ни цивилизация, ни народность нас знать не хочет.
Ну, что выйдет из моего письма? Статью г. Пыпина будут защищать и превозносить без меры; г. Буренин 31 похвалит ее в "Спб. Ведомостях", г. Тургенев с удовольствием прочитает ее в Баден-Бадене 32 .. Я же буду осыпан насмешками и бранью; даже "Сын Отечества", и тот меня, наверное, обругает. Пусть же г. Пыпин сочтет своих необозримых читателей и поклонников и пусть не предается унынию; пусть он сравнит свою блестящую судьбу с моею жалкою участью -- пусть перестанет испускать жалобы, коих я не могу слышать равнодушно!
Одинокий, печальный, всеми журналами гонимый, никем не понятый, возьму я свой зонтик, пойду в Александро-Невскую Лавру, сяду на могильную плиту Карамзина и буду вздыхать и плакать. Вы, мрачные души, вы не можете уразуметь меня. Но в моих вздохах будет для меня отрада и в моих слезах счастие, о котором ничего не ведает г. Пыпин.
Простите, милостивый государь, если волнение моих чувств и обилие моих мыслей не позволило мне соблюсти в этом письме совершенно строгий порядок и дать каждому выражению надлежащую силу. Я не имел времени с достаточной тщательностию все обдумать и взвесить свои слова и, может быть, погрешил где-либо против здравого вкуса и изящного слога. Но пусть сие слабое творение будет несовершеннейшим из моих произведений; могу вас уверить, что зато в целой нынешней литературе вы не найдете произведения более искреннего, более прямо вылившегося из души.
Н. Косица
ПРИМЕЧАНИЯ
Вздох на гробе Карамзина
(Письмо в редакцию "Зари")
Впервые: «Заря» . 1870. Кн. 10. Отд. II. С. 202--232. Печатается по первому изданию.
Страхов Николай Николаевич (1828--1896) -- русский философ, публицист, литературный критик, член-корреспондент Петербургской академии наук, первый биограф Ф. М. Достоевского. Псевдоним -- Н. Косица.
Н. Н. Страхов ответил на очерк А. Н. Пыпина о Карамзине (четвертая часть "Очерков общественного движения при Александре I" -- "Карамзин. Записка о древней и новой России"). В своем "Письме в редакцию" под заглавием "Вздох на гробе Карамзина" он останавливается главным образом на нравственном значении творчества Карамзина, которому "он обязан пробуждением своей души, первыми и высокими умственными наслаждениями". Статья стилизована "под сентиментальный карамзинский стиль" и содержит "лирические воспоминания автора о годах учения в провинциальной семинарии". Страхов отмечает "огромное благотворное влияние", которое оказали произведения Карамзина и, в частности, "История государства Российского" "на его умственное и духовное развитие". Общая тенденция полемики Н. Н. Страхова с А. Н. Пыпиным -- "защита Карамзина как деятеля, имевшего бесспорное значение в истории русской культуры" (Архипова А. В. Достоевский и Карамзин // Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1983. Т. 5. С. 108--109). Защита "высоких побуждений чести и долга" Карамзина в противовес Пыпину, видевшему в его деятельности только "своекорыстие и грубую лесть перед сильными мира сего" вызвала сочувственное отношение Ф. М. Достоевского, и когда Страхов спросил его в письме от 23 ноября 1870 г. (Достоевский находился в это время за границей): "Что скажете о моем "вздохе"", то писатель ответил ему 2 (14) декабря 1870 г: "К статье о Карамзине (Вашей) я пристрастен, ибо такова почти была и моя юность и я возрос на Карамзине. Я ее с чувством читал. Но мне понравился и тон. Мне кажется, Вы в первый раз так резко высказываете то, о чем все молчали. Резкость-то мне и нравится. Именно смелости, именно усиленного самоуважения надо больше. Нисколько не удивляюсь, что эта статья Вам доставила даже врагов" (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1986. Т. 29. Кн. 1. С. 153). В письме к Страхову от 18 (30) марта 1871 г. Достоевский снова возвращается к его статье: "Я с чрезвычайным наслаждением, например, прочел Ваши горячие, превосходные страницы, в статье о Карамзине, где Вы вспоминаете о Ваших годах учения" (Там же. С. 186--187).
1 Видоизмененная цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева "На юбилей Н. М. Карамзина" (1866):
Умевший, не сгибая выи
Пред обаянием венца,
Царю быть другом до конца
И верноподданным России...
2 Статья была подписана "Н. Косица".
3 Крашенина -- крашеный и лощеный холст, обычно синий (Даль В. И. Толковый словарь... М., 1981. Т. 2. С. 186).
4 См. прим. 10 на с. 869.
5 См. прим. 12 на с. 969.
6 Пыпин Александр Николаевич (1633--1904) -- русский литературовед, академик Петербургской Академии наук, представитель либерально-буржуазной историографии.
7 Стилизация карамзинского письма "Мелодор к Филалету", где выразилось глубокое разочарование в результатах Французской революции: "Мой друг! Начто жить мне, тебе и всем? Начто жили предки наши? Начто будет жить потомство?"
8 Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835--1889) -- русский поэт, представитель демократической печати.
9 Решетников Федор Михайлович (1841--1871) -- русский писатель-демократ.
10 Щедрин (Салтыков-Щедрин) Михаил Евграфович (1826--1889) -- русский писатель-сатирик.
11 См. прим. 108 на с. 957.
12 См. прим. 6 на с. 869.
13 См. прим. 3 на с. 869.
14 Лабзин Александр Федорович (1766--1825) -- поэт, переводчик, один из самых значительных представителей российского масонства.
15 См. прим. 19 на с. 977.
16 См. с. 939.
17 Прудон Пьер Жозеф (1809--1865) -- французский социалист, теоретик анархизма.
18 Робеспьер Максимилиан (1758--1794) -- деятель Великой французской революции.
19 Тургенев Николай Иванович (1789--1871) -- государственный деятель, декабрист.
20 Карамзин оценивал Робеспьера не как политического деятеля, а как благородного мечтателя. Карамзин испытывал "личное уважение к Робеспьеру, основанное на убеждении в том, что в водовороте революционных событий Робеспьер не искал ничего лично для себя", и сочувствовал его попытке "ввести революцию под своды религиозно-этических доктрин деистического характера" (Лотман Ю. М. "Письма русского путешественника" Н. М. Карамзина и их место в развитии русской культуры // Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 554, 558).
21 Имеется в виду сочинение Н. И. Тургенева "Россия и русские".
22 Лопухин Иван Владимирович (1756--1816) -- масон, участник кружка Н. И. Новикова.
23 Милль Джон Стюарт (1806--1873) -- английский философ и экономист. Автор сочинений "Система логики" (1843), "Основания политической экономии" (1848).
24 "Похвальное слово Екатерине II" (1801--1802) фактически представляло собой наказ новому царю Александру I.
25 Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826--1911) -- русский историк, журналист и общественный деятель.
26 Некрасов Николай Алексеевич (1821--1877/78) -- русский поэт, глава демократического направления русской поэзии.
2Т По инициативе великой княжны Екатерины Павловны Карамзин написал и подал царю (в марте 1811 г.) трактат "О древней и новой России в ее политических и гражданских отношениях", известный под названием "Записка о древней и новой России" (обнаружен в 1836-м, опубликован в Берлине в 1861-м, впервые в России полностью -- в 1900 г., отдельное издание: СПб., 1914) -- обзор русской истории, содержавший исключительно острую критику всей российской государственной монархической политики, в том числе Александра I (см.: Русские писатели: Биогр. словарь. М., 1992. Т. 2. С. 475).
28 См. прим. 95 на с. 956.
29 Данилевский Николай Яковлевич (1822--1885) -- русский публицист и социолог, идеолог панславизма.
30 См. прим. 65 на с. 920.
31 Буренин Виктор Петрович (1841--1926) -- поэт и журналист.
32 Тургенев Иван Сергеевич (1818--1883) -- русский писатель. В Баден-Бадене И. С. Тургенев подолгу жил в последние годы своей жизни.
Карамзин: pro et contra / Сост., вступ. ст. Л. А. Сапченко. -- СПб.: РХГА, 2006.
OCR Бычков М.Н
Электронная версия текста перепечатывается с сайта http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_0030.shtml
Далее читайте:
Страхов Николай Николаевич (1828-1896), российский философ, публицист.
Карамзин Николай Михайлович (1766-1826), российский историк.
«Заря» - ежемесячный литературный и политический журнал, издававшийся в Петербурге с 1869 по февраль 1872.
Единственным источником, в котором отразилась указанная тема, является «Записка». Данная проблематика обладает своими особенностями. Главная из них состоит в том, что Карамзин обращается к анализу реформ ныне правящего монарха, и делает это он в произведении, которое предполагается быть непосредственно прочитанным или прослушанным самим императором. Большую смелость подобного характера произведения (с учетом его содержания) отмечает Ю. М. Лотман. Понимает ее и сам Карамзин. Отсюда и эпиграф: «Несть льсти в языце моем», и своего рода преамбула, где автор говорит об основаниях своего обращения к Александру, которыми являются «любовь к Отечеству и монарху», «данные … Богом способности». Но в чем же конкретно выражается смелость размышлений Карамзина о политических преобразованиях царствования Александра I?
Прежде всего, автор выдвигает важнейший критерий своей оценки правления императора: его можно будет назвать благодетельным для России лишь в том случае, если оно не направлено на ограничение самодержавия. «Самодержавие основало и воскресило Россию: с переменою государственного устава ее она гибла и должна погибнуть…». Если же Александр задумает ограничить самодержавие, то добродетельный гражданин должен сказать: «… Россия пред святым алтарем вручила самодержавие твоему предку и требовала, да управляет ею верховно, нераздельно. Сей завет есть основание твоей власти, иной не имеешь; можешь все, но не можешь ограничить ее» . Пожалуй, в этой фразе наиболее ярко выразилась мысль автора об общественном договоре как главном факторе легитимности власти. Потому монарх, являющийся лишь одной из сторон этого договора, нарушить его. Однако на фоне подобных просветительских мыслей еще ярче вырисовывается специфика взгляда Карамзина на российскую историю. Тогда как в Европе концепции общественного договора развивались вокруг вопроса о праве народа сопротивляться (т.е. выходить из общественного договора) превышению монархом своих властных полномочий, Карамзин говорит совершенно противоположное: в России народ сопротивляется желанию монарха ограничить свою собственную власть. Более того в свете исторической традиции, по Карамзину, выходит, что общественный договор в России изначально носил форму монархической власти. Таким образом, против самодержца, готовящегося ограничить свою власть, выступает и историческая традиция, связанная с общественным договором.
Выработав и раскрыв значение этого генерального критерия оценки правления Александра, Карамзин разбирает его отдельные реформы. Остановимся на важнейших из них.
В «Записке» Карамзин достаточно подробно анализирует внешнюю политику России при Александре I. Автор четко и бескомпромиссно выделяет конкретные ошибки: посольство Маркова, заграничный поход, Тильзитский мир. Не останавливаясь на конкретных деталях, попытаемся выделить главную мысль автора. Думается, что она состоит в следующем: все данные внешнеполитические просчеты заключаются в том, что Россия преследовала не собственные задачи и цели, объективно вытекающие из ее государственных интересов, а служила орудием в политике других европейских государств (прежде всего Австрии). Таким образом, Александр, по мысли Карамзина, отходит от заветов во внешней политике, заложенных Иваном III, от заветов, которые принесли нам славу екатерининских побед. Приоритет собственных внутренних задач и собственной безопасности – вот что должно лежат в основе внешнеполитической деятельности. Карамзин выражает эту мысль следующим образом: «Безопасность собственная есть вышний закон в политике: лучше было согласиться, чтоб Наполеон взял Шлезию, самый Берлин, нежели признать Варшавское герцогство». Одновременно Карамзин критикует условия Тильзитского мира с той точки зрения, что они заставили Россию «следовать хищной системе» французов. Конкретно это выразилось в завоевании Финляндии, которое стоило государству не только людей и денег, но и упадка его нравственного могущества. Можно отметить, что Карамзин подходит к оценке государства и отдельного человека (ср. с взглядом на Годунова) с достаточно схожими критериями относительно нравственности.
Обратимся к оценке Карамзиным внутренних политических мероприятий Александра I.
Основная линия критики Карамзиным внутренней политики императора сосредотачивается на:
1)его политике преобразований старых государственных учреждений и замена их или создание параллельно с ним новых;
2) попытке решить вопрос государственных преобразований, опираясь на бюрократические учреждения, а не на людей;
3) излишнем расширении полномочий отдельных чиновников
Первый аспект подобной критики четко проявляется в оценке роли Сената в истории России и рассмотрением в этом свете министерской реформы. Не останавливаясь на подробностях, лишь отметим, что Карамзин считает Сенат «вышним председательствующим местом», с таким объемом власти, которое данный орган «в самодержавии иметь может». По сути, Сенат для Карамзина не является неким конкретно-историческим явлением, но скорее неким воплощением определенных принципов устройства российского монархического государства. Поэтому любые его преобразования без фактических изменений функций представляются автору просто глупыми. Если же изменению подлежат коренные принципы устройства Сената (т.е. высшего правительствующего органа при императоре), то под угрозой находятся определенные устои всего государства. Против подобных изменений Карамзин протестует еще больше. Исходя из подобных принципов, на наш взгляд, автор и критикует министерскую реформу и учреждение Государственного Совета. Одним словом существование Сената «несовместимо с другим высшим правительствующим местом».
Второй из отмеченных аспектов переплетается с указанными выше мыслями Карамзина о Сенате. Говоря об отсутствии необходимости в учреждении Государственного Совета, автор пишет: «Какая польза унижать Сенат, чтоб возвысить другое правительство? Если члены первого недостойны монаршей доверенности надобно только переменить их: или Сенат не будет правительствующим …». Это дополняет высказанную ранее мысль о том, что Карамзин отдает предпочтение решению политических проблем за счет конкретных мер (например, смены чиновников), производимых в рамках существующей системы правления, нежели отвлеченным принципам и созданию излишних государственных учреждений.
Наконец третий аспект проявляется в критике сферы полномочий министров. С одной стороны, «министр все делает и за все ответствует; но одно честолюбие бывает неограниченно». С другой, один министр просто физически не может охватить в своей деятельности все сферы государственной жизни, которые находятся в его компетенции. Одновременно их ответственность, по мнению Карамзина, просто мнима. В итоге все это ведет к тому, что «министры стали между государем и народом, заслоняя Сенат, отнимая его силу и величие…». В итоге министерская реформа представляется чем-то чуждым всей системе самодержавия, ломающей ее устои и исторические традиции. Более того, этот аспект инородности министерств подчеркивается Карамзиным во фразе: «Александр … советовался и учредил министерства, согласно с мыслями фельдмаршала Миниха и с системою правительств иностранных».
Выводом Карамзина о последовательно критикуемой им системе можно считать слова: «Спасительными уставами бывают единственно те, коих давно желают лучшие умы в государстве и которые, так сказать, предчувствуются народом, будучи ближайшим целебным средством на известное зло: учреждение министерств и совета имело для всех действие внезапности». Решающим доводом автора является апелляция к самобытной для России исторической традиции. Важно отметить и то, что Карамзин рассматривает те или иные политические преобразования не просто как акт монаршей воли, но в определенной степени как процесс ее взаимодействия желаний лучших умов государства и предчувствия народа. Таким образом, реформы, производимые властью, должны базироваться на определенной исторической традиции и иметь некую основу в обществе.
Не останавливаясь на анализе Карамзиным других реформ Александра, перейдем к части «Записки», представляющей собой советы и пожелания автора, адресованным императору.
1. «… дела пойдут как должно, если вы найдете в России 50 мужей умных, добросовестных…». Пожалуй, в этой мысли наиболее ярко проявилось стремление Карамзина к решению политических проблем посредством поиска нужных людей, которые бы добросовестно действовали в соответствии с принципами государственного устройства. Ниже Николай Михайлович объединит подобные мысли в четкий тезис: «… искусство избирать людей и обходиться с ними есть первое для государя российского; без сего искусства тщетно будет искать народного блага в новых органических уставах». Далее автор доказывает, что устройство власти на местах должно соответствовать монархическим принципам, так же как им соответствует устройство верховной власти. Эта мысль проявляется, например, в таком замечании: «Всякая губерния есть Россия в малом виде; мы хотим, чтобы государство управлялось единою, а каждая из частей оного – разными властями».
2. Второй совет Карамзина можно сформулировать таким образом: необходимо не оставлять ни одного преступления без наказания. Важно отметить, что логика размышлений автора строится на его понимании человеческой психологии. Мы уже не раз встречали подобный метод у Карамзина: можно вспомнить его идеи об эгоистическом характере стремлений отдельного человека и противопоставление им монарха как блюстителя общего блага. В данной же ситуации он говорит о причинах соблюдения людьми определенных правил морали: «Обыкновенные … люди соблюдают правила честности не столько в надежде приобрести тем особенные некоторые выгоды, сколько опасаясь вреда, сопряженного с явным нарушением сих правил». Главным образом, Карамзин ополчается против мздоимства чиновников. Развивая мысль о необходимости наказаний за проступки, автор высказывает ряд глобальных мыслей, важных для характеристики его общественно-политической позиции. «В России государь есть живой закон: добрых милует, злых казнит, и любовь первых приобретается страхом последних… В монархе российском соединяются все власти: наше правление есть отеческое, патриархальное». Эта одна из самых емких характеристик особенностей политического режима России важна для целостного понимания общественно-политических взглядов по данному вопросу. Мы видим, что Карамзин в отношении России отвергает теорию разделения властей, провозглашая соединение всех ветвей власти в фигуре самодержца. Сама характеристика правления как «отеческого, патриархального» может говорить и об указанных выше мыслях автора о государе как блюстителе общего блага, о необходимости существования тесного союза между монархом и народом, а также о том, что самодержец для россиян является земным Богом. Однако в вопросе о наказаниях, по поводу которого Карамзин высказывает указанные мысли, автор стремится показать, что подобный характер власти монарха не должен превращаться в тиранию. Она проявляется в наказаниях людей, чья вина не доказана, как говорит Карамзин наказаниях «бесполезных».
Заключительный раздел «Записки» посвящен предложениям Карамзина по поводу правительственной политики относительно сословий. Прежде всего, он излагает свой взгляд на место дворянства в общественной системе Российского государства. Характеризуя его как «братство знаменитых слуг великокняжеских или царских» особое автор обращает на проблему соотношения между потомственным и служилым дворянством. Он делает следующее предложение: «Надлежало бы не дворянству быть по чинам, но чинам по дворянству, т.е. для приобретения некоторых чинов надлежало бы необходимо требовать дворянства…». Таким образом, Карамзин высказывается за некоторую консервацию дворянства, осложнение пополнения его состава выходцами из других сословий. В качестве доводов за подобные преобразования Карамзин выделяет следующие преимущества наследственного дворянства: экономия казны, историческая традиция, воспитание. Пожалуй, в данной части «Записки» наиболее ярко проявила сословная точка зрения автора, которую мы встречали достаточно редко в предыдущих его мыслях.
Наконец, несколько слов необходимо сказать и об идеях Карамзина относительно духовенства. Основное их содержание – стремление поднять престиж и роль данного сословия в общественной жизни государства. Для этого он предлагает, например, увеличить значение Синода. Однако подобные мероприятия важны для Карамзина в той мере, в какой они удовлетворяют интересы не только представителей самих сословий, но и соответствуют пользе государства. Автор пишет: «Как дворянство, так и духовенство бывает полезно государству по мере общего к ним уважения». Если вспомнить, что уважение к власти является одной из ее главных опор, можно увидеть, что Карамзин рассматривает данные сословия как своего рода промежуточные звенья между монархом и народом. Неслучайны поэтому подобные мысли автора: «По характеру сих важных духовных сановников можете всегда судить о нравственном состоянии народа. Не довольно дать России хороших губернаторов: надобно дать и хороших священников». Таким образом, при выдвижении тех или иных предположений о преобразованиях относительно дворянства и духовенства для Карамзина, прежде всего, важны государственные интересы.
Свое произведение Карамзин завершает словами о том, каким ему видится будущее России в свете различных мыслей в обществе относительно ее скорой гибели. Отвергая в целом подобны измышления, автор между тем говорит о необходимых на его взгляд реформах, подытоживая все вышесказанное. Очень примечательна фраза, в которой Карамзин говорит об определенных объективных основаниях, которые не дадут погибнуть России: «Еще Россия имеет 40 миллионов жителей и самодержавие, имеет государя, ревностного к общему благу». Таким образом, вот они – три главных основания страны в самые различные ее исторические периоды: народ, самодержавие и государь. К этим коренным принципам вполне правомерно добавить и православие. На первый взгляд перед нами почти готовая формула, которую позднее назовут теорией «официальной народности». Заключение данного раздела хотелось бы посвятить сравнению позиций Карамзина и оформившейся позже триаде «православие, самодержавие, народность».
В историографии можно встретить различающиеся между собой точки зрения. Корнилов А. А. видит в Карамзине отца теории «официальной народности». Н. В. Минаева склонна считать, что «положение об изначальном единении монарха с народом, освящаемое авторитетом церкви, также в значительной степени трансформируется на основе изложенных в легитимистском духе просветительских представлений о «благе народа», которые у Карамзина приобретают черты будущей официальной народности». Такие же исследователи как Ермашов Д. В. и Ширинянц А. А. подчеркивают отличия теории «официальной народности» от идеологии Карамзина, которые, по их мнению, состоят в следующем:
1. Для Карамзина понятие «народность» является не только националистической идеей, но и заключает в себе стремление самодержавия к расширению своей социальной базы.
2. В различных оценках роли дворянства и бюрократии в государственном управлении.
Попытаемся высказать свой взгляд на проблему. Формально вся триада принципов, которые легли в основу теории «официальной народности», в несколько ином виде часто встречается в сочинениях Карамзина и достаточно подробно им анализируется. С этой точки зрения, возможно говорить об определенной связи между ними. Однако более важным представляется понять насколько тождественным или отличным является внутреннее содержание схожих терминов, другими словами насколько близки между собой принципы мировоззрения Карамзина и теория «официальной народности» в ее понимании императором и воплощением в собственной политике.
Учитывая, что данная тема заслуживает отдельного исследования, выскажем лишь несколько замечаний.
1. Православие. Для Карамзина признание огромной важности данного фактора в истории России идет бок обок с размышлениями о достаточно сильной и обладающей хотя бы некоторой независимостью (например, в своих суждениях) церковью. Автор постоянно выступает против полного огосударствления церкви. В то время как в николаевское правление мы видим развитие как раз подобного процесса.
2. Самодержавие. В размышлениях Карамзина о самодержавии неразрывно связаны права и обязанности государя. Он должен блюсти общее благо, придерживаться существующей исторической традиции, заботиться о счастье народа и благоденствия государства. Немаловажно и то, что Карамзин оставляет за подданными (по крайней мере, за дворянами и церковью) право высказывать свое мнение монарху относительно его политики. Подобные принципы достаточно плохо сочетаются с характером николаевского правления.
3. Народность. Соглашаясь во многом с аргументацией Д. В. Ермашова и А. А. Ширинянца, лишь отметим, что народ в сочинениях Карамзина, несмотря ни на какие метаморфозы политических режимов обладает определенными исконными правами (главным образом, в частной, «домашней» жизни). Одновременно он является одной из сторон общественного договора, на котором базируется власть. Таким образом, и в данном вопросе Карамзин показывает, что обязанности сопряжены с правами (как он делает и относительно двух вышеуказанных принципов).
карамзин консервативный революция реформа
Единственным источником (среди использованных в данной работе), в котором отразилась указанная тема, является «Записка». Данная проблематика обладает своими особенностями. Главная из них состоит в том, что Карамзин обращается к анализу реформ ныне правящего монарха, и делает это он в произведении, которое предполагается быть непосредственно прочитанным или прослушанным самим императором. Большую смелость подобного характера произведения (с учетом его содержания) отмечает Ю.М. Лотман Лотман Ю.М. «О древней…». . Понимает ее и сам Карамзин. Отсюда и эпиграф: «Несть льсти в языце моем», и своего рода преамбула, где автор говорит об основаниях своего обращения к Александру, которыми являются «любовь к Отечеству и монарху», «данные … Богом способности» Карамзин Н.М. «Записка». Стр. 47. Но в чем же конкретно выражается смелость размышлений Карамзина о политических преобразованиях царствования Александра I?
Прежде всего, автор выдвигает важнейший критерий своей оценки правления императора: его можно будет назвать благодетельным для России лишь в том случае, если оно не направлено на ограничение самодержавия. «Самодержавие основало и воскресило Россию: с переменою государственного устава ее она гибла и должна погибнуть…» Карамзин Н.М. «Записка». Стр. 48 . Если же Александр задумает ограничить самодержавие, то добродетельный гражданин должен сказать: «… Россия пред святым алтарем вручила самодержавие твоему предку и требовала, да управляет ею верховно, нераздельно. Сей завет есть основание твоей власти, иной не имеешь; можешь все, но не можешь ограничить ее» Там же. 50. Пожалуй, в этой фразе наиболее ярко выразилась мысль автора об общественном договоре как главном факторе легитимности власти. Потому монарх, являющийся лишь одной из сторон этого договора, нарушить его. Однако на фоне подобных просветительских мыслей еще ярче вырисовывается специфика взгляда Карамзина на российскую историю. Тогда как в Европе концепции общественного договора развивались вокруг вопроса о праве народа сопротивляться (т.е. выходить из общественного договора) превышению монархом своих властных полномочий, Карамзин говорит совершенно противоположное: в России народ сопротивляется желанию монарха ограничить свою собственную власть. Более того в свете исторической традиции, по Карамзину, выходит, что общественный договор в России изначально носил форму монархической власти. Таким образом, против самодержца, готовящегося ограничить свою власть, выступает и историческая традиция, связанная с общественным договором.
Выработав и раскрыв значение этого генерального критерия оценки правления Александра, Карамзин разбирает его отдельные реформы. Остановимся на важнейших из них.
В «Записке» Карамзин достаточно подробно анализирует внешнюю политику России при Александре I. Автор четко и бескомпромиссно выделяет конкретные ошибки: посольство Маркова, заграничный поход, Тильзитский мир. Не останавливаясь на конкретных деталях, попытаемся выделить главную мысль автора. Думается, что она состоит в следующем: все данные внешнеполитические просчеты заключаются в том, что Россия преследовала не собственные задачи и цели, объективно вытекающие из ее государственных интересов, а служила орудием в политике других европейских государств (прежде всего Австрии). Таким образом, Александр, по мысли Карамзина, отходит от заветов во внешней политике, заложенных Иваном III, от заветов, которые принесли нам славу екатерининских побед. Приоритет собственных внутренних задач и собственной безопасности - вот что должно лежат в основе внешнеполитической деятельности. Карамзин выражает эту мысль следующим образом: «Безопасность собственная есть вышний закон в политике: лучше было согласиться, чтоб Наполеон взял Шлезию, самый Берлин, нежели признать Варшавское герцогство» Карамзин Н.М. «Записка». Стр. 54. Одновременно Карамзин критикует условия Тильзитского мира с той точки зрения, что они заставили Россию «следовать хищной системе» французов. Конкретно это выразилось в завоевании Финляндии, которое стоило государству не только людей и денег, но и упадка его нравственного могущества Там же. Стр. 55. Можно отметить, что Карамзин подходит к оценке государства и отдельного человека (ср. с взглядом на Годунова) с достаточно схожими критериями относительно нравственности.
Обратимся к оценке Карамзиным внутренних политических мероприятий Александра I.
Основная линия критики Карамзиным внутренней политики императора сосредотачивается на: 1)его политике преобразований старых государственных учреждений и замена их или создание параллельно с ним новых; 2) попытке решить вопрос государственных преобразований, опираясь на бюрократические учреждения, а не на людей; 3) излишнем расширении полномочий отдельных чиновников
Первый аспект подобной критики четко проявляется в оценке роли Сената в истории России и рассмотрением в этом свете министерской реформы. Не останавливаясь на подробностях, лишь отметим, что Карамзин считает Сенат «вышним председательствующим местом», с таким объемом власти, которое данный орган «в самодержавии иметь может» Карамзин Н.М. «Записка». Стр. 56. По сути, Сенат для Карамзина не является неким конкретно-историческим явлением, но скорее неким воплощением определенных принципов устройства российского монархического государства. Поэтому любые его преобразования без фактических изменений функций представляются автору просто глупыми. Если же изменению подлежат коренные принципы устройства Сената (т.е. высшего правительствующего органа при императоре), то под угрозой находятся определенные устои всего государства. Против подобных изменений Карамзин протестует еще больше. Исходя из подобных принципов, на наш взгляд, автор и критикует министерскую реформу и учреждение Государственного Совета. Одним словом существование Сената «несовместимо с другим высшим правительствующим местом» Там же. Стр. 59.
Второй из отмеченных аспектов переплетается с указанными выше мыслями Карамзина о Сенате. Говоря об отсутствии необходимости в учреждении Государственного Совета, автор пишет: «Какая польза унижать Сенат, чтоб возвысить другое правительство? Если члены первого недостойны монаршей доверенности надобно только переменить их: или Сенат не будет правительствующим …» Карамзин Н.М. «Записка». Стр. 59. Это дополняет высказанную ранее мысль о том, что Карамзин отдает предпочтение решению политических проблем за счет конкретных мер (например, смены чиновников), производимых в рамках существующей системы правления, нежели отвлеченным принципам и созданию излишних государственных учреждений.
Наконец третий аспект проявляется в критике сферы полномочий министров. С одной стороны, «министр все делает и за все ответствует; но одно честолюбие бывает неограниченно» Там же. Стр. 58. С другой, один министр просто физически не может охватить в своей деятельности все сферы государственной жизни, которые находятся в его компетенции. Одновременно их ответственность, по мнению Карамзина, просто мнима. В итоге все это ведет к тому, что «министры стали между государем и народом, заслоняя Сенат, отнимая его силу и величие…» Там же. . В итоге министерская реформа представляется чем-то чуждым всей системе самодержавия, ломающей ее устои и исторические традиции. Более того, этот аспект инородности министерств подчеркивается Карамзиным во фразе: «Александр … советовался и учредил министерства, согласно с мыслями фельдмаршала Миниха и с системою правительств иностранных» Там же. Стр. 57.
Выводом Карамзина о последовательно критикуемой им системе можно считать слова: «Спасительными уставами бывают единственно те, коих давно желают лучшие умы в государстве и которые, так сказать, предчувствуются народом, будучи ближайшим целебным средством на известное зло: учреждение министерств и совета имело для всех действие внезапности» Там же. Стр. 61. Решающим доводом автора является апелляция к самобытной для России исторической традиции. Важно отметить и то, что Карамзин рассматривает те или иные политические преобразования не просто как акт монаршей воли, но в определенной степени как процесс ее взаимодействия желаний лучших умов государства и предчувствия народа. Таким образом, реформы, производимые властью, должны базироваться на определенной исторической традиции и иметь некую основу в обществе.
Не останавливаясь на анализе Карамзиным других реформ Александра, перейдем к части «Записки», представляющей собой советы и пожелания автора, адресованным императору.
1. «… дела пойдут как должно, если вы найдете в России 50 мужей умных, добросовестных…» Карамзин Н.М. «Записка». Стр. 99. Пожалуй, в этой мысли наиболее ярко проявилось стремление Карамзина к решению политических проблем посредством поиска нужных людей, которые бы добросовестно действовали в соответствии с принципами государственного устройства. Ниже Николай Михайлович объединит подобные мысли в четкий тезис: «… искусство избирать людей и обходиться с ними есть первое для государя российского; без сего искусства тщетно будет искать народного блага в новых органических уставах» Там же. Стр. 100-101 . Далее автор доказывает, что устройство власти на местах должно соответствовать монархическим принципам, так же как им соответствует устройство верховной власти. Эта мысль проявляется, например, в таком замечании: «Всякая губерния есть Россия в малом виде; мы хотим, чтобы государство управлялось единою, а каждая из частей оного - разными властями» Там же. Стр. 100.
2. Второй совет Карамзина можно сформулировать таким образом: необходимо не оставлять ни одного преступления без наказания. Важно отметить, что логика размышлений автора строится на его понимании человеческой психологии. Мы уже не раз встречали подобный метод у Карамзина: можно вспомнить его идеи об эгоистическом характере стремлений отдельного человека и противопоставление им монарха как блюстителя общего блага. В данной же ситуации он говорит о причинах соблюдения людьми определенных правил морали: «Обыкновенные … люди соблюдают правила честности не столько в надежде приобрести тем особенные некоторые выгоды, сколько опасаясь вреда, сопряженного с явным нарушением сих правил» Карамзин Н.М. «Записка». Стр. 101. Главным образом, Карамзин ополчается против мздоимства чиновников. Развивая мысль о необходимости наказаний за проступки, автор высказывает ряд глобальных мыслей, важных для характеристики его общественно-политической позиции. «В России государь есть живой закон: добрых милует, злых казнит, и любовь первых приобретается страхом последних… В монархе российском соединяются все власти: наше правление есть отеческое, патриархальное» Там же. Стр. 102. Эта одна из самых емких характеристик особенностей политического режима России важна для целостного понимания общественно-политических взглядов по данному вопросу. Мы видим, что Карамзин в отношении России отвергает теорию разделения властей, провозглашая соединение всех ветвей власти в фигуре самодержца. Сама характеристика правления как «отеческого, патриархального» может говорить и об указанных выше мыслях автора о государе как блюстителе общего блага, о необходимости существования тесного союза между монархом и народом, а также о том, что самодержец для россиян является земным Богом. Однако в вопросе о наказаниях, по поводу которого Карамзин высказывает указанные мысли, автор стремится показать, что подобный характер власти монарха не должен превращаться в тиранию. Она проявляется в наказаниях людей, чья вина не доказана, как говорит Карамзин наказаниях «бесполезных».
Заключительный раздел «Записки» посвящен предложениям Карамзина по поводу правительственной политики относительно сословий. Прежде всего, он излагает свой взгляд на место дворянства в общественной системе Российского государства. Характеризуя его как «братство знаменитых слуг великокняжеских или царских» Там же. Стр. 105 особое автор обращает на проблему соотношения между потомственным и служилым дворянством. Он делает следующее предложение: «Надлежало бы не дворянству быть по чинам, но чинам по дворянству, т.е. для приобретения некоторых чинов надлежало бы необходимо требовать дворянства…» Карамзин Н.М. «Записка». Стр. 106. Таким образом, Карамзин высказывается за некоторую консервацию дворянства, осложнение пополнения его состава выходцами из других сословий. В качестве доводов за подобные преобразования Карамзин выделяет следующие преимущества наследственного дворянства: экономия казны, историческая традиция, воспитание. Пожалуй, в данной части «Записки» наиболее ярко проявила сословная точка зрения автора, которую мы встречали достаточно редко в предыдущих его мыслях.
Наконец, несколько слов необходимо сказать и об идеях Карамзина относительно духовенства. Основное их содержание - стремление поднять престиж и роль данного сословия в общественной жизни государства. Для этого он предлагает, например, увеличить значение Синода. Однако подобные мероприятия важны для Карамзина в той мере, в какой они удовлетворяют интересы не только представителей самих сословий, но и соответствуют пользе государства. Автор пишет: «Как дворянство, так и духовенство бывает полезно государству по мере общего к ним уважения» Там же. Стр. 108. Если вспомнить, что уважение к власти является одной из ее главных опор, можно увидеть, что Карамзин рассматривает данные сословия как своего рода промежуточные звенья между монархом и народом. Неслучайны поэтому подобные мысли автора: «По характеру сих важных духовных сановников можете всегда судить о нравственном состоянии народа. Не довольно дать России хороших губернаторов: надобно дать и хороших священников» Там же. Стр. 108-109 . Таким образом, при выдвижении тех или иных предположений о преобразованиях относительно дворянства и духовенства для Карамзина, прежде всего, важны государственные интересы.
Свое произведение Карамзин завершает словами о том, каким ему видится будущее России в свете различных мыслей в обществе относительно ее скорой гибели. Отвергая в целом подобны измышления, автор между тем говорит о необходимых на его взгляд реформах, подытоживая все вышесказанное. Очень примечательна фраза, в которой Карамзин говорит об определенных объективных основаниях, которые не дадут погибнуть России: «Еще Россия имеет 40 миллионов жителей и самодержавие, имеет государя, ревностного к общему благу» Карамзин Н.М.Указ. соч. Стр. 109. Таким образом, вот они - три главных основания страны в самые различные ее исторические периоды: народ, самодержавие и государь. К этим коренным принципам вполне правомерно добавить и православие. На первый взгляд перед нами почти готовая формула, которую позднее назовут теорией «официальной народности». Заключение данного раздела хотелось бы посвятить сравнению позиций Карамзина и оформившейся позже триаде «православие, самодержавие, народность».
В историографии можно встретить различающиеся между собой точки зрения. Корнилов А.А. видит в Карамзине отца теории «официальной народности» Корнилов А.А. «Курс истории России XIX века». Стр. 290. М.,2004. Н.В. Минаева склонна считать, что «положение об изначальном единении монарха с народом, освящаемое авторитетом церкви, также в значительной степени трансформируется на основе изложенных в легитимистском духе просветительских представлений о «благе народа», которые у Карамзина приобретают черты будущей официальной народности» Минаева Н.В. «Европейский легитимизм и эволюция политических представлений Н.М.Карамзина» / См. «История СССР».№ 5.Стр. М.,1982. Такие же исследователи как Ермашов Д.В. и Ширинянц А.А. подчеркивают отличия теории «официальной народности» от идеологии Карамзина, которые, по их мнению, состоят в следующем:
1. Для Карамзина понятие «народность» является не только националистической идеей, но и заключает в себе стремление самодержавия к расширению своей социальной базы.
2. В различных оценках роли дворянства и бюрократии в государственном управлении Ермашов Д.В., Ширинянц А.А. Указ. соч. Стр. 47.
Попытаемся высказать свой взгляд на проблему. Формально вся триада принципов, которые легли в основу теории «официальной народности», в несколько ином виде часто встречается в сочинениях Карамзина и достаточно подробно им анализируется. С этой точки зрения, возможно говорить об определенной связи между ними. Однако более важным представляется понять насколько тождественным или отличным является внутреннее содержание схожих терминов, другими словами насколько близки между собой принципы мировоззрения Карамзина и теория «официальной народности» в ее понимании императором и воплощением в собственной политике.
Учитывая, что данная тема заслуживает отдельного исследования, выскажем лишь несколько замечаний.
1. Православие. Для Карамзина признание огромной важности данного фактора в истории России идет бок обок с размышлениями о достаточно сильной и обладающей хотя бы некоторой независимостью (например, в своих суждениях) церковью. Автор постоянно выступает против полного огосударствления церкви. В то время как в николаевское правление мы видим развитие как раз подобного процесса.
2. Самодержавие. В размышлениях Карамзина о самодержавии неразрывно связаны права и обязанности государя. Он должен блюсти общее благо, придерживаться существующей исторической традиции, заботиться о счастье народа и благоденствия государства. Немаловажно и то, что Карамзин оставляет за подданными (по крайней мере, за дворянами и церковью) право высказывать свое мнение монарху относительно его политики. Подобные принципы достаточно плохо сочетаются с характером николаевского правления.
3. Народность. Соглашаясь во многом с аргументацией Д.В. Ермашова и А.А. Ширинянца, лишь отметим, что народ в сочинениях Карамзина, несмотря ни на какие метаморфозы политических режимов обладает определенными исконными правами (главным образом, в частной, «домашней» жизни). Одновременно он является одной из сторон общественного договора, на котором базируется власть. Таким образом, и в данном вопросе Карамзин показывает, что обязанности сопряжены с правами (как он делает и относительно двух вышеуказанных принципов).
Подытожим раздел относительно темы политических преобразований Александра I в «Записке» Карамзина.
Таким образом, размышления Карамзина о политических мероприятиях Александра дают очень ценный материал для оценки общественно-политической позиции автора. Они позволят увидеть как общие принципы мировоззрения Карамзина, которые выясняются при его оценках тех или иных событиях прошлого, воплощаются им в конкретных политических проектах, направленных на решение самых злободневных вопросов.