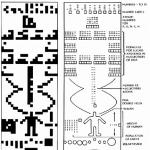Жанр: ,
Серия:Язык:
Издательство:
Город издания: М.
Год издания:
ISBN: 5-280-01008-1 Размер: 716 Кб
Описание
Роман Д. С. Мережковского (1865-1941) «Воскресшие боги Леонардо да-Винчи» входит в трилогию «Христос и Антихрист», пользовавшуюся широкой известностью в конце XIX – начале XX века. Будучи оригинально связан сквозной мыслью автора о движении истории как борьбы религии духа и религии плоти с романами «Смерть богов. Юлиан отступник» (1895) и «Антихрист, Петр и Алексей» (1904), роман этот сохраняет смысловую самостоятельность и законченность сюжета, являясь ярким историческим повествованием о жизни и деятельности великого итальянского гуманиста эпохи Возрождения Леонардо да Винчи (1452-1519).
Леонардо да Винчи – один из самых загадочных гениев эпохи Возрождения. Создатель бесспорных шедевров, вдохновенный художник, он внезапно охладевал к искусству, оставляя свои картины незаконченными. Его рисунки с одинаковым совершенством изображают как красоту человека и мира, так и уродливые, жестокие сцены бытия. Ему принадлежит множество самых разнообразных изобретений, далеко опередивших его время и сохраняющих свое значение и в наши дни. Загадочна личная жизнь этого человека, зашифровавшего свои чувства так же, как он шифровал свои труды, записывая их «зеркальным письмом». У него были преданные ученики, непримиримые соперники, среди которых Рафаэль и Микеланджело. Он разговаривал с простолюдинами и с всесильными государями. Все они прошли перед внимательным и холодным взглядом Леонардо. Его время осталось в его трудах, сам же он по-прежнему будоражит наше воображение не только тем, что оставил, но и тем, что унес с собой...
Воскресшие боги, или Леонардо да Винчи (Христос и Антихрист – 2)
Злобным, принужденным смехом: – Удивляюсь я папе: ведь в чем другом, а в шутах да юродивых знает, кажется, толк. Мессер Леонардо истинный клад для него. Они точно созданы друг для друга. Право же, синьоры, похлопочите-ка за мастера, чтобы святой отец принял его на службу. Не бойтесь, останется доволен: старик наш сумеет его утешить лучше самого фра Мариано и даже карлика Барабалло! Шутка эта была ближе к истине, чем можно было думать: когда слухи о фокусах Леонардо, о бараньих кишках, раздуваемых кузнечными мехами, о крылатой ящерице и летающих восковых изваяниях дошли до Льва X, ему так захотелось видеть их, что даже страх, внушаемый колдовством и безбожием Леонардо, папа готов был забыть. Ловкие царедворцы давали понять художнику, что наступило время действовать: судьба посылает ему случай сделаться соперником не только Рафаэля, но и самого Барабалло в милостях его святейшества. Но Леонардо снова, как уже столько раз в жизни, не внял совету мудрости житейской – не сумел воспользоваться случаем и ухватиться вовремя за колесо Фортуны. Угадывая чутьем, что Чезаре – враг Леонардо, Франческо предостерегал учителя; но тот не верил. – Оставь его, не трогай, – заступался он за Чезаре. – Ты не знаешь, как он любит меня, хотя и желал бы ненавидеть. Он такой же несчастный, даже несчастнее, чем… Леонардо не кончил. Но Мельци понял, что он хотел сказать: несчастнее, чем Джованни Бельтраффио. – И мне ли судить его? – продолжал учитель. – Я, может быть, сам виноват перед ним… – Вы – перед Чезаре? – изумился Франческо. – Да, друг мой. Ты этого не поймешь. Но мне кажется иногда, что я сглазил, испортил его, потому что, видишь ли, мальчик мой, у меня, должно быть, в самом деле дурной глаз… И, немного подумав, прибавил с тихою, доброю улыбкою: – Оставь его, Франческо, и не бойся: он не сделает мне зла и никуда не уйдет от меня, никогда не изменит. А что возмутился он и борется со мной, то ведь это – за душу свою, за свободу, потому что он ищет себя, хочет быть самим собою. И пусть! Помоги ему Господь, – ибо, я знаю, когда он победит, то вернется ко мне, простит меня, поймет, как я его люблю, и тогда я дам ему все, что имею, – открою все тайны искусства и знания, чтобы он, после смерти моей, проповедовал их людям. Потому что, если не он, то кто же?.. Еще летом, во время болезни Леонардо, Чезаре целыми неделями пропадал из дому. Осенью исчез окончательно и более не возвращался. Заметив его отсутствие, Леонардо спросил о нем Франческо. Тот потупил глаза в смущении и ответил, что Чезаре уехал в Сиену для исполнения спешного заказа. Франческо боялся, что Леонардо станет расспрашивать, почему уехал он, не простившись. Но, поверив или притворяясь, что верит неискусной лжи, учитель заговорил о другом. Только углы губ его дрогнули и опустились с тем выражением горькой брезгливости, которое все чаще в последнее время стало появляться на лице его. Осень была дождливая. Но в конце ноября наступили солнечные дни, лучезарно-тихие, которые нигде не бывают так прекрасны, как в Риме: пышное увядание осени родственно пустынному великолепию Вечного Города. Леонардо давно уже собирался в Сикстинскую часовню, чтобы видеть фрески Микеланджело. Но все откладывал, словно боялся. Наконец однажды утром вышел из дому вместе с Франческо и направился в часовню. Это было узкое, длинное, очень высокое здание, с голыми стенами и стрельчатыми окнами. На потолке и на сводах были только что оконченные фрески Микеланджело. Леонардо взглянул на них и замер. Как ни боялся, все-таки не ожидал того, что увидел. Перед исполинскими образами, как будто видениями – перед Богом Саваофом, отделяющим тьму от света в лоне хаоса, благословляющим воды и растения, творящим Адама из персти, Еву из ребра Адамова; перед грехопадением, жертвой Авеля и Каина, потопом, насмешки Сима и Хама над наготою спящего родителя; перед голыми прекрасными юношами, стихийными демонами, сопровождающими вечною игрою и пляскою трагедию вселенной, борьбу человека и Бога; перед сивиллами и Пророками, страшными гигантами, как будто отягченными сверхчеловеческою скорбью и мудростью; перед Иисусовыми предками, рядом темных поколений, передающих друг другу бесцельное бремя жизни, томящихся в муках рождения, питания, смерти, ожидающих пришествия Неведомого Искупителя, – перед всеми этими созданиями своего соперника Леонардо не судил, не мерил, не сравнивал, только чувствовал себя уничтоженным. Перебирал в уме свои собственные произведения: погибающая Тайная Вечеря, погибший Колосс, Битва при Ангиари, бесчисленное множество других неоконченных работ – ряд тщетных усилий, смешных неудач, бесславных поражений. Всю жизнь только начинал, собирался, готовился, но доселе ничего не сделал – и к чему себя обманывать? – теперь уже поздно, – никогда ничего не сделает. Несмотря на весь неимоверный труд своей жизни, не был ли он подобен лукавому рабу, зарывшему талант свой в землю? И в то же время сознавал, что стремился к большему, к высшему, чем Буонарроти, – к тому соединению, к той последней гармонии, которых тот не знал и знать не хотел в своем бесконечном разладе, возмущении, буйстве и хаосе. Леонардо вспомнил слова моны Лизы о Микеланджело – о том, что сила его подобна бурному ветру, раздирающему горы, сокрушающему скалы пред Господом, и что он, Леонардо, сильнее Микеланджело, как тишина сильнее бури, потому что в тишине, а не в буре – Господь. Теперь ему было яснее, чем когда-либо, что это так: мона Лиза не ошиблась, рано или поздно дух человеческий вернется на путь, указанный им, Леонардо, от хаоса к гармонии, от раздвоения к единству, от бури к тишине. Но все-таки, как знать, на сколько времени останется победа за Буонарроти, сколько поколений увлечет он за собою? И сознание правоты своей в созерцании делало для него еще более мучительным сознание своего бессилия в действии. Молча вышли они из часовни. Франческо угадывал то, что происходило в сердце учителя, и не смел расспрашивать. Но, когда заглянул в лицо его, ему показалось, что Леонардо еще больше опустился, как будто сразу постарел, одряхлел на многие годы за тот час, который пробыли они в Сикстинской Капелле. Перейдя через площадь Сан-Пьетро, они направились по улице Борго-Нуовок мосту Сант-Анжело. Теперь учитель думал о другом сопернике, быть может, не менее страшном для него, чем Буонарроти – о Рафаэле Санти. Леонардо видел недавно оконченные фрески Рафаэля, в верхних приемных покоях Ватикана, так называемых Станцах, и не мог решить, чего в них больше, – величия в исполнении, или ничтожества в замысле, неподражаемого совершенства, напоминавшего самые легкие и светлые создания древних, или раболепного заискивания в сильных мира сего? Папа Юлий II мечтал об изгнании французов из Италии: Рафаэль представил его взирающим на изгнание силами небесными оскорбителя святыни, сирийского вождя Элиодора из храма Бога Всевышнего: Папа Лев x воображал себя великим оратором: Рафаэль прославил его в образе Льва и Великого, увещевающего варвара Атиллу отступить от Рима; попавшись в плен французам во время Равеннской битвы. Лев X благополучно спасся: Рафаэль увековечил это событие под видом чудесного избавления апостола Петра из темницы. Так превращал он искусство в необходимую часть папского двора, в приторный фимиам царедворческой лести. Этот пришелец из Урбино, мечтательный отрок, с лицом непорочной Мадонны, казавшийся ангелом, слетевшим на землю, как нельзя лучше устраивал свои земные дела: расписывал конюшни римскому банкиру Агостино Киджи, готовил рисунки для его посуды, золотых блюд и тарелок, которые тот, после угощения папы, бросал в Тибр, дабы они больше никому не служили. «Счастливый мальчик» – fortunato garzon, как называл его Франчиа, достигал славы, богатства, почестей точно играя. Злейших врагов и завистников обезоруживал любезностью. Не притворялся, а был действительно другом всех. И все удавалось ему; дары фортуны как будто сами шли ему в руки: Получил выгодное место покойного зодчего Браманте при постройке нового собора; доходы его росли с каждым днем; кардинал Биббиена сватал за него свою племянницу, но он выжидал, так как ему самому обещали кардинальский пурпур. Выстроил себе изящный дворец в Ворго и зажил в нем с царственною пышностью. С утра дo ночи толпились у него в передней сановные лица, посланники иностранных государей, желавших иметь свой портрет или, по крайней мере, какую-нибудь картину, рисунок на память. Заваленный работою, отказывал всем. Но просители не унимались, осаждали его. Давно уже не имел он времени кончать своих произведений; только начинал, делал два, три мазка и тотчас передавал ученикам, которые подхватывали и кончали как бы на лету. Мастерская Рафаэля сделалась огромною фабрикою, где ловкие дельцы, как Джулио Романо, превращали холст и краски в звонкую монету с неимоверною быстротою, рыночною наглостью. Сам он уже не заботился о совершенстве, довольствуясь посредственным. Служил черни, А она ему служила, принимала его с восторгом, как своего избранника, свое любимое детище, плоть от плоти, кость от кости, порождение собственного духа. Молва объявила его величайшим художником всех веков и народов: Рафаэль стал богом живописи. И хуже всего было то, что в своем падении он все еще был велик, обольстительно прекрасен, не только для толпы, но и для избранных. Принимая блестящие игрушки из рук богини счастья, с простодушною беспечностью, оставался чистым и невинным, как дитя. «Счастливый мальчик» сам не ведал, что творит. И пагубнее для грядущего искусства, чем разлад и хаос Микеланджело, была эта легкая гармония Санти, академически-мертвое, лживое примирение. Леонардо предчувствовал, что за этими двумя вершинами, за Микеланджело и Рафаэлем, нет путей к будущему – далее обрыв, пустота. И в то же время сознавал, сколь многим оба обязаны ему: они взяли у него науку о тени и свете, анатомию, перспективу, познание природы, человека – и, выйдя из него, уничтожали его. Погруженный в эти мысли, шел он по-прежнему, словно в забытьи, потупив глаза, опустив голову. Франческо пытался заговорить с ним, но слова замирали каждый раз, как, вглядываясь в лицо учителя, видел на бледных старческих губах выражение тихой бесконечной брезгливости. Подходя к мосту Сант-Анжело, должны они были посторониться, уступая дорогу толпе человек в шестьдесят, пеших и всадников в роскошных нарядах, которая двигалась навстречу по тесной улице Борго-Нуово. Леонардо взглянул сначала рассеянно, думая, что это поезд какого-нибудь римского вельможи, кардинала или посланника. Но его поразило лицо молодого человека, одетого роскошнее других, ехавшего на белой арабской лошади с позолоченной сбруей, усыпанной драгоценными каменьями. Где-то, казалось ему, он уже видел это лицо. Вдруг вспомнил тщедушного, бледного мальчика в черном камзоле, запачканном красками, с истертыми локтями, который лет восемь назад во Флоренции
– И в кого только уродился, подумаешь? Вы ведь меня знаете: я человек простой, бесхитростный. Что на уме, то и на языке. А Чезаре, Господь его ведает, – все-то он молчит, все-то прячется. Верите ли, мессеры, иногда кричу на него, ругаюсь, а сам боюсь, да, да, собственного сына боюсь, потому что вежлив он, даже слишком вежлив, а как вдруг поглядит-точно нож в сердце… Гости принялись еще усерднее защищать герцога. – Ну, да уж знаю, знаю, – молвил папа с хитрою усмешкою, – вы его любите, как родного, и нам в обиду не дадите…
Все притихли, недоумевая, каких еще похвал ему нужно.
– Вот вы все говорите: такой он, сякой, – продолжал старик, и глаза его загорелись уже неудержимым восторгом, – а я вам прямо скажу: никому из вас и не снилось, что такое Чезаре! О, дети мои, слушайте – я открою вам тайну сердца моего. Не себя ведь я в нем прославляю, а некий высший Промысел. – Два было Рима. Первый собрал племена и народы земные под властью меча. Но взявший меч от меча погибнет. И Рим погиб. Нe стало в мире власти единой, и рассеялись народы, как овцы без пастыря. Но миру нельзя быть без Рима.
И новый Рим хотел собрать языки под властью Духа, и не пошли к нему, ибо сказано: будешь пасти их жезлом железным. Единый же духовный жезл над миром власти не имеет. Я, первый из пап, дал церкви Господней сей меч, сей жезл железный, коим пасутся народы и собираются в стадо единое. Чезаре – мой меч. И се, оба Рима, оба меча соединяются, да будет папа Кесарем и Кесарь папою, царство Духа на царстве Меча в последнем вечном Риме!
Старик умолк и поднял глаза к потолку, где золотыми лучами, как солнце, сиял багряный зверь.
– Аминь! Аминь! Да будет! – вторили сановники и кардиналы Римской церкви.
В зале становилось душно. У папы немного кружилась голова не столько от вина, сколько от опьяняющих грез о величии сына.
Вышли на балкон – рингиеру, выходившую на двор Бельведера.
Внизу папские конюхи выводили кобыл и жеребцов из конюшен.
– Алонсо, ну-ка, припусти! – крикнул папа старшему конюху.
Тот понял и отдал приказ: случка жеребцов с кобылами была одной из любимых потех его святейшества.
Ворота конюшни распахнулись; бичи захлопали; послышалось веселое ржание, и целый табун рассыпался по двору; жеребцы преследовали и покрывали кобыл.
Окруженный кардиналами и вельможами церкви, долго любовался папа этим зрелищем.
Но мало-помалу лицо его омрачилось: он вспомнил, как несколько лет назад любовался этой же самой потехой вместе с мадонной Лукрецией. Образ дочери встал перед ним, как живой: белокурая, голубоглазая, с немного толстыми чувственными губами – в отца, вся свежая, нежная, как жемчужина, бесконечно покорная, тихая, во зле не знающая зла, в последнем ужасе греха непорочная и бесстрастная. Вспомнил он также с возмущением и ненавистью теперешнего мужа ее, феррарского герцога Альфоонсо д`Эсте. Зачем он отдал ее. зачем согласился на брак?
Тяжело вздохнув и понурив голову, как будто вдруг почувствовав на плечах своих бремя старости, вернулся папа в приемную.
Здесь уже приготовлены были сферы, карты, циркули, компасы для проведения великого меридиана, который должен был пройти в трехстах семидесяти португальских «легуах» к западу от островов Азорских и Зеленого Мыса. Место это выбрано было потому, что именно здесь, как утверждал Колумб, находился «пуп земли», отросток грушевидного глобуса, подобный сосцу женской груди – гора, достигающая лунной сферы небес, в существовании коей убедился он по отклонению магнитной стрелки компаса во время своего первого путешествия.
От крайней западной точки Португалии с одной стороны и берегов Бразилии – с другой отметили равные расстояния до меридиана. Впоследствии кормчие и астрономы должны были с большею точностью определить эти расстояния днями морского пути.
Папа сотворил молитву, благословил земную сферу тем самым крестом, в который вставлен был изумруд с Венерой Каллипигою, и, обмакнув кисточку в красные чернила, провел по Атлантическому океану от северного полюса к южному великую миротворную черту: все острова и земли, открытые или имевшие быть открытыми к востоку от этой черты, принадлежали Испании, к западу – Португалии.
Так, одним движением руки разрезал он шар земли пополам, как яблоко, и разделил его между христианскими народами.
В это мгновение, казалось Джованни, Александр VI, благолепный и торжественный, полный сознанием своего могущества, походил на предсказанного им миродержавного Кесаря-Папу, объединителя двух царств – земного и небесного, от мира и не от мира сего.
В тот же день вечером, в своих покоях в Ватикане, Чезаре давал его святейшеству и кардиналам пир, на котором присутствовало пятьдесят прекраснейших римских «благородных блудниц» – meretrices honestae.
После ужина закрыли окна ставнями, двери заперли, со столов сняли огромные серебряные подсвечники и поставили их на пол. Чезаре, папа и гости кидали жареные каштаны блудницам, и они подбирали их, ползая на четвереньках, совершенно голые, между бесчисленным множеством восковых свечей: дрались, смеялись, визжали, падали; скоро на полу, у ног его святейшества, зашевелилась голая груда смуглых, белых и розовых тел в ярком, падавшем снизу, блеске догоравших свечей.
Семидесятилетний папа забавлялся, как ребенок, бросал каштаны пригоршнями и хлопал в ладоши, называя кортиджан своими «птичками-трясогузочками».
Но мало-помалу лицо его омрачилось точно такою же тенью, как после полдника на рингиере Бельведера: он вспомнил, как в 1501 году, в ночь кануна Всех Святых, любовался вместе с мадонной Лукрецией, возлюбленною дочерью, этой же самою игрою с каштанами.
В заключение праздника гости спустились в собственные покои его святейшества, в залу Господа и Божьей Матери. Здесь устроено было любовное состязание между кортиджанами и сильнейшими из романьольских телохранителей герцога; победителям раздавались награды.
Так отпраздновали в Ватикане достопамятный день Римской церкви, ознаменованный двумя великими событиями – разделением шара земного и учреждением духовной цензуры.
Леонардо присутствовал на этом ужине и видел все. Приглашение на подобные празднества считалось величайшею милостью, от которой невозможно было отказаться.
В ту же ночь, вернувшись домой, писал он в дневнике:
...«Правду говорит Сенека: в каждом человеке есть бог и зверь, скованные вместе». И далее, рядом с анатомическим рисунком: «Мне кажется, что люди с низкими душами, с презренными страстями, недостойны такого прекрасного и сложного строения тела, как люди великого разума и созерцания: довольно с них было бы мешка с двумя отверстиями, одним – чтобы принимать, другим – чтобы выбрасывать пищу, ибо воистину они не более, как проход для пищи, как наполнители выгребных ям. Только лицом и голосом похожи на людей, а во всем остальном хуже скотов».