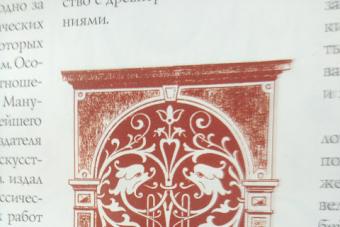Французский писатель, журналист и критик Фредерик Бегбедер (р.1965 году), хорошо известный российским читателям своими ироничными провокационными романами, комментирует пятьдесят произведений, названных французами лучшими книгами ХХ века.
№ 2 Марсель Пруст «В поисках утраченного времени» (1913-1927)
Как видите, великий Марсель Пруст стоит только на втором месте в списке книг века, но знаете почему? Потому что он первый среди всех писателей нашего тысячелетия и, следовательно, в рамках крошечного ХХ века находится как бы вне конкурса.
О его шедевре все уже многажды сказано, и написано, и разжевано, иногда даже больше, чем нужно, и вы хотите, чтобы я изложил содержание этого трёхтысячестраничного монстра в нескольких строчках!? Да сегодня не Пруст - сегодня я маюсь в поисках утраченного времени! Впрочем, само название романа говорит о многом: «Поиски утраченного времени», чуть было не вышли под заголовком «Перебои чувств», «Убиенные голубки» и «Сталакиты прошлого», но, выбранное в конечном счёте название как нельзя лучше выражает суть нашего века. Если вдуматься, именно ХХ век ускорил бег времени, все сделал мгновенно преходящим, и Пруст неосознанно, но безошибочно, как и положено настоящему гению, угадал это свойство. Сегодня долг каждого писателя состоит в том чтобы помочь нам отыскать время, разрушенное нашим веком, ибо
«подлинные райские кущи – это те, которые мы утратили». Пруст построил свой семитомный карточный домик с намерением сообщить нам одну простую истину: литература нужна для того, чтобы найти время… для чтения!
Ну и конечно, я мог бы в вкратце пересказать вам его роман, одновременно и импрессионистский, и кубистский, автобиографический и вымышленный, отобрав несколько основных сюжетных линий: да, это роман о любви, доведённой ревностью до безумия, - любви Свана к Одетте, Рассказчика к Альбертине; разумеется, это история Марселя, светского выскочки, жаждущего получить приглашение к принцессе Германтской, но, поскольку это ему не удаётся, ставшего литератором-мизантропом; бесспорно, это coming-out (здесь: откровения – англ.) стыдливого гомосексуалиста, который описывает декадентов своего времени, барона де Шарлю и его друга Жюпьена, дабы за их счёт обелить самого себя; о` кей, это энциклопедия упадочных нравов аристократического общества до и во время Первой мировой войны 1914-1918 годов; несомненно, он повествует также и о жизни молодого человека, Рассказывающего, как он стал писателем, ибо спотыкался о булыжники мостовой вместо того, чтобы забрасывать ими, как это принято сегодня, спецназовцев.
Но говорит обо всём этом – значит умолчать о настоящем герои книги, а именно о вновь обретённом времени. В нём – в обретённом времени - может таиться великое множество самых разных вещей: тоска по детству, накатившая в тот миг, когда ты грызёшь миндальное пирожное; смерть, когда снова встречаешься с одряхлевшими снобами; эрозия любовной страсти или как превратить страдание в скуку; своевольная память - настоящая машина для странствий во времени, которое можно побороть, только когда пишешь, слушаешь сонату Вентейля или колокол Мартенвиля. «Воспоминание о некоем образе – это всего лишь сожаление о некоем мгновении; и дома, и дороги, и улицы, увы, так же эфемерны, как годы».
Не побоюсь сказать: Пруст часто пишет слишком длинные фразы, и многие люди с трудом вникают в его текст. Но не упрекайте себя, нужно просто привыкнуть к ритму его прозы. Лично я преодолел это затруднение, сказав себе так: эти бесконечно совершенствуемые фразы адекватны работе человеческого мозга. Стоит ли обвинять Пруста в том, что его фразы слишком длинны, если у Вас в голове складываются и вовсе нескончаемые периоды (при том наверняка менее интересные, уж извините меня за прямоту)?!
Пруст не хотел умирать и потому, став затворником, жил по ночам и спал днём, питаясь, точно вампир, кровью Сен-Жерменского предместья, исступленно работая над своим романом с 1906-го года по 1922-ой год; он умер в том же году – и выиграл, обессмертив себя, ибо «настоящая жизнь, жизнь наконец-то постигнутая и разгаданная, а, следовательно, единственная реально прожитая, - это литература». Роман «По направлению к Свану», отвергнутый Андре Жидом в «Галлимаре», был издан в 1913 году издательством «Грассе» за счёт автора; следующий том – «Под сенью девушек в цвету», опубликованный уже «Галлимаром», принёс автору Гонкуровскую премию в 1919 году. Пруст ещё застанет выход томов «У германтов» (1921) и «Содом и Гоморра» (1922), однако три последние книги – «Пленница», «Беглянка» и «Обретённое время» - вышли после смерти писателя, в 1923, 1925 и 1927 годах, в весьма топорной обработке его брата Роббера.
И вот в 1927 году наступил конец века. Пять лет спустя появиться Селин и ещё 48 книг, участвующих в нашем хит-параде, не считая всех остальных, которые туда не попали, но по большому счёту игра уже окончена. Никто больше НИКОГДА не сможет писать так, как раньше. Никто больше никогда не сможет ЖИТЬ как раньше. Отныне всякий раз, когда образ, ощущение, звук или запах напомнят Вам нечто другое – ну я не знаю, что именно. Может, в данную конкретную минуту, читая меня, вы вспомните о каком-нибудь давнем событии, переживании, школьном учителе, «заколебавшем» вас этим самым Прустом в старших классах, - так вот. Всякий раз, как вас постигнет такая вспышка памяти, знайте, что это и есть Обретённое Время. Что это и есть Пруст. И что это в тысячу раз прекраснее всех DVD на свете и интереснее, чем PlayStation. Сказать вам почему? Потому что Пруст учит нас, что время не существует. Что все возрасты нашей жизни, вплоть до смертного часа, остаются при нас. И что только мы сами вольны выбрать для себя тот миг, который нам дороже всего.
Источник - Библиотека Альдебаран
«В поисках утраченного времени» это то, к чему я постоянно возвращаюсь. Первый том, «По направлению к Свану», я прочел еще 8 лет назад. Практически сразу после «Улисса», который заставил меня надолго заинтересоваться литературой модернизма и классикой. Тогда, в 18 лет, у меня еще не было серьезной любви и я не мог в полной мере понять, что это такое, любовные муки, испытываемые Сваном. Зато вполне понимал, что значит впечатление. Юношей я был впечатлительным, да и сейчас такой же.
Воспоминания Марселя о давно прошедших временах будит вкус кусочка печенья «Мадлен» на чайной ложечке, которое он макает в чай. Он вспоминает, как когда-то в Комбре делал то же самое, какой ревностной любовью в то время любил свою маму, как самым знаменательным событием в жизни был мамин поцелуй на ночь. Потом Марсель заметит, как играет в парке дочка Свана, Жильберта, и испытает совершенно новое для себя ощущение - влюбленность в женщину. С первой влюбленностью придут и муки: страх отвержения, боязнь, что его чувства останутся непонятыми и что объекту любви нет никакого дела до него.
Так получилось, что семейство Свана сыграло значимую роль в жизни Марселя. Позднее, когда уже будет старше, он вспомнит, что Сван-то был влюблен. Конечно же, без страданий и тут не обошлось, ведь влюблен он был в роковую женщину Одетту де Креси, известную своим вольным нравом.

Влюбился Сван в Одетту не сразу - до определенного момента он ее едва ли замечал. Но все решило Впечатление. В салоне Вердюренов был прием, звучала музыка - соната Вентейля. И надо же было так упасть свету, так Одетте повернуть голову, что в этот самый момент Свана поразило, он испытал настоящую страсть - голова Одетты похожа на головку с картины Боттичелли. Музыка, свет, случайный поворот головы - вместе это решило все. Сван окончательно и бесповоротно влюбился.
Что общего между собой имеют соната Вентейля, картина Боттичелли и какая-то вульгарная женщина? Да ничего. Только ровно так всегда и бывает - мы влюбляемся не в саму женщину, а в наше впечатление о ней. Это значит, что мы наделяем ее своими внутренними качествами и идеалами, которые сами же выдумали или представления о которых получили благодаря нашему жизненному опыту, культурному и интеллектуальному бэкграунду. То есть мы влюбляемся сами в себя, или, если хотите, в те представления об идеале, которые проецируем на объект любви. Естественно, с самим объектом это не имеет ничего общего. За фантазиями о женщине мы не видим реального человека перед нами. Это происходит намного позже. Впечатление настолько эфемерное и неуловимое явление, что не может длиться вечно. Так случилось и со Сваном. В какой-то момент он разлюбил Одетту, но не сожалел об этом, так как понял, в какой водоворот попал.

Моя девушка, в отличие от меня, прочитала весь цикл из семи книг, за что я ей очень горжусь и, пользуясь случаем, передаю пламенный привет. Тут я и подумал, а не вернуться ли мне к внутренней эпопее еще раз, не проникнуться ли блестящим языком Пруста, его изящными предложениями с витиеватой структурой, раскрывающимися у вас на глазах словно лепестки розы? Конечно же вернуться!
«Препятствия, с которыми должен бороться влюбленный и которые его воображение, обостренное болью, напрасно пытается распознать, кроются подчас в каких-то чертах характера женщины, ускользающей от его влияния, в ее глупости, в том, что она поддается чужим влияниям и страхам, которые внушают ей люди, незнакомые влюбленному, в том, что ей хочется от жизни других радостей, тех, которые влюбленный при всем своем богатстве не может ей предложить»
Испытывали ли вы что-нибудь подобное? Когда понимаете, что человеку, в которого вы влюблены, дела до вас нет. И вините себя, сокрушаетесь, пробуете и то, и это. Но все бесполезно. Тут приходят боль и страдание. Пруст вас поймет, с ним было то же самое. Он объяснит и поддержит - вашей вины здесь нет, такова природа любви. Ничего тут не поделаешь. Кроме страдания есть еще и высшее счастье, которое ждет нас где-то впереди.
Для меня Марсель Пруст оказался чутким, очень умным и внимательным собеседником. Мы нашли друг друга в подходящее время, когда в жизни у меня появились наслаждения любви и боль отвержения. Он поддержал меня и многое объяснил. «О, так ведь и у меня абсолютно то же самое», - думал я. Я убежден, что лучше Пруста о любви не написал ни один писатель, не снял ни один режиссер. Это любовь формате 3D, нет 7D! Такое ощущение, будто Пруст блестящий психотерапевт, одаренный невероятной мудростью и гениальным писательским мастерством.

Вот именно, вы как будто находитесь на сеансе психотерапии, только не сами говорите, а слушаете, как блестяще рассказывает терапевт, который знает все о вашем случае. Остается только читать, поднимать брови, хмуриться и много-много размышлять. Например над тем, что любовь может быть чем-то приходящим. В конце концов пройдут разочарование, одиночество, покинутость, привычка быть рядом с человеком, и мы устремимся навстречу новым впечатлениям. Так случилось и с Марселем. Он долго и мучительно переживал расставание с Жильбертой, но пришло лето и время ехать в курортный городок Бальбек, выдуманный Прустом.
Там, на моле, прогуливалась стайка молодых дев, поражающих своей свежестью и красотой, юные, еще до конца не сформировавшиеся создания - каждая из них обладала чарующим обаянием. Они были прекрасны, как те цветы, что распустились у дороги, по которой Марсель едет на прогулку в своей карете. В эти мгновения он больше всего желает замедлиться, остановиться у каждого цветка и распознать его уникальную красоту.
По этой же причине он ищет встречи с девами - быть причастным грациозному параду, лихой веселой игре и смеху. Полностью отдаться этому - как ветер закруживает мимолетное впечатление: светлые волосы девушек, смех и улыбки. Оно несется на тебя и вот ты уже в его власти - под сенью дев, увенчанных цветами.
Валентин Луи Жорж Эжен Марсель Пруст
Valentin Louis Georges Eugene Marcel Proust
Марсель Пруст родился в районе Отёй (фр. Auteuil, пригород Парижа; ныне его XVI округ) 10 июля 1871 года в доме двоюродного дяди Луи Вейля, через два месяца после окончания франко-прусской войны. Его отец, Адриан Пруст - выдающийся врач-эпидемиолог и патолог, профессор медицинского факультета, занимался поисками средств предотвращения распространения холеры в Европе и Азии; был советником французского правительства по борьбе с эпидемией; автором многочисленных статей и книг по медицине и гигиене. Мать, Жанна Вейль - дочь еврейского биржевого маклера.
Весной 1880 года, в возрасте 9 лет Пруст испытал первый приступ астмы, с которой боролся на протяжении всей жизни.
В 1882 году Пруст поступил в лицей Кондорсе. Часто отсутствовал. Выпускные экзамены на звание бакалавра он сдал в июле 1889 года, и был особо отмечен за сочинение по французскому. В лицее Пруст познакомился с Жаком Бизе.

В сентябре 1903 умер отец, а в сентябре 1905 горячо его любившая мать. Пруст получает богатое наследство, но тяжёлая форма астмы вынуждает его вести с 1906 года затворнический образ жизни. В годы Первой мировой войны субсидировал содержание публичного дома для гомосексуалов. Около 1907 года он начал работу над основным своим произведением - «В поисках утраченного времени». В ноябре 1913 года вышел первый роман прустовской эпопеи «По направлению к Свану», который был встречен прохладно читателями и критикой, но второй роман писателя «Под сенью девушек в цвету» принёс ему известность и был удостоен Гонкуровской премии за 1919 год.
И нтересно знать, факты из жизни Пруста
“Пленница” – пятый роман эпопеи “В поисках утраченного времени”, вышел уже после смерти Марселя Пруста.
Французский писатель, новеллист и критик, представитель [модернизм]а в литературе. Получил всемирную известность как автор семитомной эпопеи «В поисках утраченного времени», одного из самых значительных произведений мировой литературы XX века.

Пруст – выходец из обеспеченной семьи, гомосексуал и жуткий ипохондрик (пребывание в бредовом состоянии), чтобы бодрствовать по ночам он выпивал большие количества кофе, в дневное время спал, предварительно приняв веронал (барбитал – снотворное). В итоге всего результат был таков – из своих последних пятнадцати лет жизни подавляющую часть суток он провёл на диване, в звукоизолированной комнате. И что интересно. Отец Марселя был врач по профессии, но он так и не смог помочь сыну, наверное, понимал безнадёжность положения (речь о наследственных болезнях), ведь родная тётка Марселя Пруста (тётушка Элиза, также ипохондрик) отказывалась вставать с кровати в течение двадцати лет.
В Венеции был кафе “Флориан”, здесь часто показывался Пруст.
А в ресторане Maxim’s бывали Марсель Пруст, Жан Кокто, Саша Гитри.
 В 1999 году, две крупнейшие сети книжных магазинов Франции провели среди своих покупателей опрос, с целью выявления списка из 50 самых лучших произведений XX века, по номером 2 в этом списке фигурировал роман «В поисках утраченного времени», на первом же месте расположился роман «Посторонний» Альбера Камю.
В 1999 году, две крупнейшие сети книжных магазинов Франции провели среди своих покупателей опрос, с целью выявления списка из 50 самых лучших произведений XX века, по номером 2 в этом списке фигурировал роман «В поисках утраченного времени», на первом же месте расположился роман «Посторонний» Альбера Камю.
Марсель Пруст был похоронен на кладбище Пер-Лашез.
В доме № 102 на Boulevard Haussmann (Париж) в шестикомнатных апартаментах c 1907 по 1919 год жил Марсель Пруст. Роман «В поисках утраченного времени» был написан в этих стенах. Сейчас эта квартира стал музеем.
Принято считать, что Марсель Пруст явился начинателем нового направления в литературе. Свои произведения он рассматривает как инструмент по изучению конструирования реальности человеческим сознанием во времени, но не линейно, а согласно эмоциональным всплескам памяти. Идеи Пруста во многом совпадают с учением интуитивиста Анри Бергсона, высказанные в книге «Материя и память» (1896 год). Сознание проявляется в двух формах. Одна связана с практической деятельностью человека, формируется общественным воздействием на индивидуума. Она относительна и не позволят проникнуть в подлинную сущность реальности, к которой человека приводит интуиция, проявляющиеся в самых незначительном с точки зрения практического сознания восприятии.
Альбер де Кюзиа организовал в Париже для гомосексуалистов мужской публичный дом «Отель Мариньи». Пруст не только поддерживал его предприимчивость деньгами, но и сам стал завсегдатаем этого дома.
Гранки первого издания романа «По направлению к Свану» с правкой автора на аукционе Кристи были в июле 2000 были проданы за 663 750 фунтов стерлингов (1 008 900 долларов), что является рекордной стоимостью для рукописи французской литературы.

Марсель является один из родоначальников литературного модернизма, соединял в своем творчестве настоящие и минувшие события в единую цельную картину. Изысканный и причудливый мир прустовской прозы воссоздает удивительный и непредсказуемый путь человека в глубины своей внутренней вселенной. Писатель заложил основу нового типа романа – романа “потока сознания”.
В конце жизни, 14 мая 1921 года Марсель Пруст встретился с другим известным писателем, своим ровесником Андре Жидом, который никогда не скрывал свою гомосексуальность, и откровенно беседовал с ним. На следующий день Жид описал эту встречу в своем дневнике, который в конце своей жизни опубликовал. Жид записывает: «Он сказал, что никогда в жизни не любил женщину, разве что духовно, и не знал другой любви, кроме как к мужчине. Я и не предполагал, что Пруст столь исключительно гомосексуален»…
 Существует так называемый «опросник Марселя Пруста». Во второй половине XX века на телевидении многих стран мира телеведущие, приглашающие в свои программы известных людей, в конце встреч задавали им вопросы из этого опросника. В России Владимир Познер продолжает эту традицию в программе «Познер».
Существует так называемый «опросник Марселя Пруста». Во второй половине XX века на телевидении многих стран мира телеведущие, приглашающие в свои программы известных людей, в конце встреч задавали им вопросы из этого опросника. В России Владимир Познер продолжает эту традицию в программе «Познер».
За роман «Под сенью девушек в цвету» 10 декабря 1919 года Прусту присуждают Гонкуровскую премию.
Марсель Пруст писал лежа.
“В поисках утраченного времени”
 Краткое содержание романа
Краткое содержание романа
Magnum opus французского писателя-модерниста Марселя Пруста, полуавтобиографический цикл из семи романов. Публиковался во Франции в промежутке между 1913 и 1927 годами.
Повествование романа Пруста «В поисках утраченного времени» ведется от имени героя по имени Марсель. Произведение носит автобиографический рассказ, но автор отрицает отношение книги к его личной истории. Герой находится в состоянии воспоминаний и готовится уйти в мир иной. Он очень болен, но рядом нет близких ему людей. Герой сожалеет о былом времени и тоскует о том, чего не успел совершить в своей жизни и о своем нераскрытом потенциале.
Произведение можно рассматривать как часы песочного типа. Очень хочется повернуть время вспять, но, к сожалению, в мире все построено иначе. Роман имеет психологический характер и несет в себе последнее слово умирающего человека.

Марсель отображает свою прожитую жизнь на основе мелочей, рисуя образы давно знакомых людей. Рассказ ведется от первого лица.
Время ускользает в краткий миг между сном и пробуждением. В течение нескольких секунд повествователю Марселю кажется, будто он превратился в то, о чем прочитал накануне. Разум силится определить местонахождение спальной комнаты. Неужели это дом дедушки в Комбре, и Марсель заснул, не дождавшись, когда мама придет с ним проститься? Или же это имение госпожи де Сен-Ау в Тансонвиле? Значит, Марсель слишком долго спал после дневной прогулки: одиннадцатый час – все отужинали! Затем в свои права вступает привычка и с искусной медлительностью начинает заполнять обжитое пространство. Но память уже пробудилась: этой ночью Марселю не заснуть – он будет вспоминать Комбре, Бальбек, Париж, Донсьер и Венецию.
После неудачной женитьбы на женщине из дурного общества Сван бывал в Комбре все реже и реже, однако каждый его приход был мукой для мальчика, ибо прощальный мамин поцелуй приходилось уносить с собой из столовой в спальню. Величайшее событие в жизни Марселя произошло, когда его отослали спать еще раньше, чем всегда. Он не успел попрощаться с мамой и попытался вызвать её запиской, переданной через кухарку Франсуазу, но этот маневр не удался. Решив добиться поцелуя любой ценой, Марсель дождался ухода Свана и вышел в ночной рубашке на лестницу. Это было неслыханным нарушением заведенного порядка, однако отец, которого раздражали “сантименты”, внезапно понял состояние сына. Мама провела в комнате рыдающего Марселя всю ночь. Когда мальчик немного успокоился, она стала читать ему роман Жорж Санд, любовно выбранный для внука бабушкой. Эта победа оказалась горькой: мама словно бы отреклась от своей благотворной твердости.

На протяжении долгого времени Марсель, просыпаясь по ночам, вспоминал прошлое отрывочно: он видел только декорацию своего ухода спать – лестницу, по которой так тяжко было подниматься, и спальню со стеклянной дверью в коридорчик, откуда появлялась мама. В сущности, весь остальной Комбре умер для него, ибо как ни усиливается желание воскресить прошлое, оно всегда ускользает. Но когда Марсель ощутил вкус размоченного в липовом чае бисквита, из чашки вдруг выплыли цветы в саду, боярышник в парке Свана, кувшинки Вивоны, добрые жители Комбре и колокольня церкви Святого Илария.
Этим бисквитом угощала Марселя тетя Леония в те времена, когда семья проводила пасхальные и летние каникулы в Комбре. Тетушка внушила себе, что неизлечимо больна: после смерти мужа она не поднималась с постели, стоявшей у окна. Любимым её занятием было следить за прохожими и обсуждать события местной жизни с кухаркой Франсуазой – женщиной добрейшей души, которая вместе с тем умела хладнокровно свернуть шею цыпленку и выжить из дома неугодную ей посудомойку.
Марсель обожал летние прогулки по окрестностям Комбре. У семьи было два излюбленных маршрута: один назывался “направлением к Мезеглизу” (или “к Свану”, поскольку дорога проходила мимо его имения), а второй – “направлением Германтов”, потомков прославленной Женевьевы Брабантской. Детские впечатления остались в душе навсегда: много раз Марсель убеждался, что по-настоящему его радуют лишь те люди и те предметы, с которыми он столкнулся в Комбре. Направление к Мезеглизу с его сиренью, боярышником и васильками, направление в Германт с рекой, кувшинками и лютиками создали вечный образ страны сказочного блаженства. Несомненно, это послужило причиной многих ошибок и разочарований: порой Марсель мечтал увидеться с кем-нибудь только потому, что этот человек напоминал ему цветущий куст боярышника в парке Свана.
Вся дальнейшая жизнь Марселя была связана с тем, что он узнал или увидел в Комбре. Общение с инженером Легранденом дало мальчику первое понятие о снобизме: этот приятный, любезный человек не желал здороваться с родными Марселя на людях, поскольку породнился с аристократами. Учитель музыки Вентейль перестал бывать в доме, чтобы не встречаться со Сваном, которого презирал за женитьбу на кокотке. Вентейль не чаял души в своей единственной дочери. Когда к этой несколько мужеподобной на вид девушке приехала подруга, в Комбре открыто заговорили об их странных отношениях. Вентейль несказанно страдал – возможно, дурная репутация дочери до срока свела его в могилу. Осенью того года, когда наконец умерла тетя Леония, Марсель стал свидетелем отвратительной сцены в Монжувене: подруга мадемуазель Венгейль плюнула в фотографию покойного музыканта. Год ознаменовался еще одним важным событием: Франсуаза, поначалу рассерженная “бездушием” родных Марселя, согласилась перейти к ним на службу.

Из всех школьных товарищей Марсель отдавал предпочтение Блоку, которого в доме принимали радушно, невзирая на явную претенциозность манер. Правда, дедушка посмеивался над симпатией внука к евреям. Блок рекомендовал Марселю прочесть Бергота, и этот писатель произвел на мальчика такое впечатление, что его заветной мечтой стало познакомиться с ним. Когда Сван сообщил, что Бергот дружен с его дочерью, у Марселя замерло сердце – только необыкновенная девочка могла заслужить подобное счастье. При первой встрече в тансонвильском парке Жильберта посмотрела на Марселя невидящим взглядом – очевидно, это было совершенно недоступное создание. Родные же мальчика обратили внимание лишь на то, что госпожа Сван в отсутствие мужа бесстыдно принимает барона де Шарлю.
 Но величайшее потрясение испытал Марсель в комбрейской церкви в тот день, когда герцогиня Германтская соизволила посетить богослужение. Внешне эта дама с большим носом и голубыми глазами почти не отличалась от других женщин, но её окружал мифический ореол – перед Марселем предстала одна из легендарных Германтов. Страстно влюбившись в герцогиню, мальчик размышлял о том, как завоевать её благосклонность. Именно тогда и родились мечты о литературном поприще.
Но величайшее потрясение испытал Марсель в комбрейской церкви в тот день, когда герцогиня Германтская соизволила посетить богослужение. Внешне эта дама с большим носом и голубыми глазами почти не отличалась от других женщин, но её окружал мифический ореол – перед Марселем предстала одна из легендарных Германтов. Страстно влюбившись в герцогиню, мальчик размышлял о том, как завоевать её благосклонность. Именно тогда и родились мечты о литературном поприще.
Лишь спустя много лет после своего расставания с Комбре Марсель узнал про любовь Свана. Одетта де Креси была единственной женщиной в салоне Вердюренов, куда принимались только “верные” – те, кто считал доктора Котара светочем премудрости и восторгался игрой пианиста, которому в данный момент оказывала покровительство госпожа Вердюрен. Художника по прозвищу “маэстро Биш” полагалось жалеть за грубый и вульгарный стиль письма. Сван считался завзятым сердцеедом, но Одетта была совсем не в его вкусе. Однако ему приятно было думать, что она влюблена в него. Одетта ввела его в “кланчик” Вердюренов, и постепенно он привык видеть её каждый день. Однажды ему почудилось в ней сходство с картиной Боттичелли, а при звуках сонаты Вентейля вспыхнула настоящая страсть. Забросив свои прежние занятия (в частности, эссе о Вермеере), Сван перестал бывать в свете – теперь все его мысли поглощала Одетта. Первая близость наступила после того, как он поправил орхидею на её корсаже – с этого момента у них появилось выражение “орхидеиться”. Камертоном их любви стала дивная музыкальная фраза Вентейля, которая, по мнению Свана, никак не могла принадлежать “старому дураку” из Комбре. Вскоре Сван начал безумно ревновать Одетту. Влюбленный в нее граф де Форшвиль упомянул об аристократических знакомствах Свана, и это переполнило чашу терпения госпожи Вердюрен, всегда подозревавшей, что Сван готов “дернуть” из её салона. После своей “опалы” Сван лишился возможности видеться с Одеттой у Вердюренов. Он ревновал её ко всем мужчинам и успокаивался лишь тогда, когда она находилась в обществе барона де Шарлю. Услышав вновь сонату Вентейля, Сван с трудом сдержал крик боли: не вернуть уже того прекрасного времени, когда Одетта безумно его любила. Наваждение проходило постепенно. Прекрасное лицо маркизы де Говожо, урожденной Легранден, напомнило Свану о спасительном Комбре, и он вдруг увидел Одетту такой, как она есть – не похожей на картину Боттичелли. Как могло случиться, что он убил несколько лет жизни на женщину, которая ему, в сущности, даже и не нравилась?
Марсель никогда не поехал бы в Бальбек, если бы Сван не расхвалил ему тамошнюю церковь в “персидском” стиле. А в Париже Сван стал для мальчика “отцом Жильберты”. Франсуаза водила своего питомца гулять на Елисейские поля, где играла девичья “стайка” во главе с Жильбертой. Марселя приняли в компанию, и он полюбил Жильберту еще сильнее. Его восхищала красота госпожи Сван, а ходившие о ней толки пробуждали любопытство. Когда-то эту женщину звали Одетта де Креси.
А форизмы и цитаты
 Единственный истинный способ открыть мир, единственный фонтан Вечной Юности состоит не в том, чтобы посетить неведомые страны, а в том, чтобы заполучить другие глаза, смотреть на мир глазами другого человека, сотен других людей, увидеть сотни миров, которые видят эти люди, увидеть миры, заключенные в этих людях.
Единственный истинный способ открыть мир, единственный фонтан Вечной Юности состоит не в том, чтобы посетить неведомые страны, а в том, чтобы заполучить другие глаза, смотреть на мир глазами другого человека, сотен других людей, увидеть сотни миров, которые видят эти люди, увидеть миры, заключенные в этих людях.
Счастье благотворно для тела, но только горе развивает способности духа.
Знать – не всегда значит помешать.
Самое нежное общение в мире бывает меж теми, кто не заинтересован в общении.
Архивы Марселя Пруста проданы во Франции с аукциона за $1,24 млн.
Для писателя, как и для художника, стиль является вопросом видения, а не техники.
Интеллектуальный уровень салона и его внешний блеск находятся по отношению друг к другу скорее в обратной, чем в прямой зависимости.
Мы не особенно придирчивы и справедливы к тому, что нас не волнует.
Обманутый муж всюду видит обманутых мужей.
Он так долго об этом размышлял, что уже начал это проповедовать.
Сильная мысль передает частицу своей силы противнику.
Каждый человек требователен и рассудителен лишь в том случае, если он обсуждает волнующее его самого.
Желая забыть человека, мы находимся в том состоянии, когда наша память делает все наперекор данному желанию.
Хотеть не думать о ней – это уже означало все еще о ней думать.
Как человек с высоко развитым интеллектом, он не мог говорить вкратце о том, что не требовало долгих речей.
Только с помощью искусства мы можем покинуть самих себя, узнать, как другой видит вселенную.
В жизни встречается очень немного легких успехов и окончательных неудач.
Марсель Пруст – яркий пример «писателя одной книги». Он начал писать и публиковаться очень рано, но всемирная известность к нему пришла за произведение «В поисках утраченного времени». Это серия из семи книг, которые сложно воспринимать в отрыве друг от друга. Concepture формулирует причины, которые помогут вам определиться читать эту монументальную серию или нет.
Лень, Вещи и Время
Обладавший замечательным литературным слогом и оригинальным мышлением, Пруст несколько раз пытался объединить их в форме крупного произведения. В 1896-1899 году он пишет роман «Жан Сатей», затем в 1908-1909 загорается идеей философского эссе «Против Сент-Бёва», однако обе работы останутся неоконченными.
Неоконченный роман будет опубликован в 1952 году (в 30-летнюю годовщину смерти автора), а наброски из эссе войдут в текст первой книги серии - «В сторону Свана». По собственному замечанию Пруста лень спасла его от написания многих безусловно слабых вещей. Однако, смерть отца и матери подтолкнули его к созданию романа.

Начатый то ли в 1907, то ли в 1909 году, он будет вчерне завершен к 1911 году (тогда цикл назывался «Перебои сердца» и состоял из 3 книг), но вскоре он вернется к работе и будет редактировать теперь уже 7 книг, вплоть до самой своей смерти. В своем последнем варианте «В поисках утраченного времени» - это огромное произведение, содержащее около 3200 страниц, на которых появляется более 2000 персонажей.
При этом не менее важными персонажами его романа становятся не люди, а вещи, в которых отпечаталось что-то важное из внутренней жизни. Эти вещи становятся лейтмотивами, вплетенными в ткань произведения - пирожное Мадлен, вкус липового чая, накрахмаленная салфетка, голос Бермы, мартенвильские колокола, камни мостовой, радуга в фонтане и др.
Вещи буквально связывают невидимыми символическими узами мир главного героя. И для этого автор задействует все известные ему красоты стиля. В каком-то смысле, читая Пруста, вы читаете не одного автора и не одно произведение, вы встречаетесь со всей предшествующей литературной традицией. Как минимум, наилучшими образцами французской словесности.
Почему вам понравится opus magnum Марселя Пруста
1

Классика литературы модерна и, вероятно, ее вершина, ее наиярчайшая звезда, ее титаническое воплощение. Думаю, этим все сказано. Так, что если писатели модерна (особенно периода конца XIX - начала XX в.) вам близки и интересны, то Пруст - однозначно ваш выбор.
2

Опус Пруста, как отмечают многие, был в значительной степени инспирирован философией: современной (в те годы) и даже модной философской системой Анри Бергсона и, прежде всего, его идеей «длительности».
При этом Пруст без сомнения превзошел своего «учителя» (хотя первый получил Гонкуровскую премию, а второй - Нобелевскую по литературе), ведь современные философы, говоря об идее континуальности и неразрывности сознания, гораздо чаще поминают писателя, чем парижского философа жизни. Может быть идею «длительности» и придумал Бергсон, но воплотил ее - Пруст.
Впрочем, в последней книге цикла («Обретенное время») Пруст предлагает гораздо более сложный образ отношений времени и человеческого сознания. Как замечает литературный критик Лев Пумпянский, к концу романа «герой начинает понимать, что жизнь - не линия, идущая вперед, а растущая вверх пирамида нагроможденных лет», и он, дрожа, стоит на вершине этой колоссальной пирамиды.
3

«В поисках утраченного времени» - это образец жертвы, совершенной художником ради своего замысла. И это одновременно яркий пример парадокса в отношениях автора и его творчества. Чтобы написать свое произведение, Пруст добровольно становится затворником - он буквально поселится в комнатке, обитой пробковым дубом, и последние десять лет своей жизни целиком посвятит написанию романа. Чтобы дать жизнь главному герою, Пруст почти полностью отказался от своей.
При этом Марсель хорошо понимал, что его книга первоначально будет встречена неодобрением - уж слишком она отличается от привычного чтения. В прокрустовом ложе старых лекал его первый роман сочли неудачным и запутанным автобиографическим романом. Однако, с каждой новой книгой цикла количество читателей, почувствовавших его уникальность, становилось все больше.
4

Произведение Пруста - многомерно, объемно и сложно, подобно готическому собору. По этой причине многие критики слишком спешат с пониманием «общей идеи» и промахиваются в выводах.
На первый взгляд: Пруст иносказательно описывает свою жизнь. За этим стоит подлинно гуманистический замысел: жизнь каждого интересна и в ней нет мелочей. Пруст отказывается не только от сюжета, но и вообще от отбора материала, словно всё, что обнаруживается в памяти достойно внимания автора (и его читателя).
Но это неверная перспектива: в романе есть сюжет, а отбор Пруст будет проводить колоссальный (счет правок, редакций, часов работы идет на тысячи). Каждый эпизод, к которым многократно возвращается Марсель, не случаен - он отобран сознанием (философ Мамардашвили свое главное произведение о феноменологии посвятит разбору Пруста).
Когда стиль Пруста, хваля за детальность и точность, сравнивали с трудом ученого, изучающего жизнь под микроскопом, его всегда это возмущало. Позже он напишет, что пользовался не «микроскопом» в своей работе, а наоборот «телескопом»: «для того, чтобы обнаружить вещи действительно мелкие, но лишь потому что они расположены на огромной дистанции, и которые представляют собой каждая целый мир». Читая Пруста, у вас есть шанс открыть нечто большее, чем банальности о том, что все люди уникальны.
5

Стоит отметить, что у Пруста было весьма специфическое чувство юмора. Или чувство мести. Из его биографии хорошо известен следующий эпизод. Марсель Пруст профинансировал проект своего любовника Альбера де Кузье - первый в Париже публичный дом для гомосексуалистов под названием «Отель Мариньи» (он и сам в нем часто бывал).
Туда же в бордель он передал старинную мебель, доставшуюся ему от родителей. Его детство, окутанное атмосферой благопристойности и асексуальности, оставило на нем след, которому он отплатил таким образом, и явно не без удовольствия.
Почему вам не понравится opus magnum Марселя Пруста
1

В самую первую очередь роман Пруста - это путешествие вглубь себя, в чертоги воспоминаний, через которые открываются черты эпохи. Или, говоря чуть более сниженным стилем: это роман-самокопание.
Если вы не склонны к самоисканиям и бесконечным рефлексиям о себе, то вряд ли подобное заинтересует вас и в Прусте. Тем, кто избегает или не имеет в себе привычки героев Достоевского расковыривать свои раны, Пруст рискует не понравиться абсолютно всем, что в нем есть.
2

«В поисках утраченного времени» - это медленное, нет, даже сверхмедленное чтение. Это логично вытекает из самой ориентации на рефлексию: проза автора сконцентрирована не на происходящих событиях, а на самом способе или манере наблюдать эти события.
Для современного читателя, столь часто привыкшего к экшену, смене событий, интригам и клифхэнгерам, постоянному напряжению и ожиданию, провоцируемым текстом, чтение Пруста будет подобно китайской пытке водой.
3

Гомосексуальность. Как и во времена Пруста эта тема вызывает у людей разную реакцию, вплоть до резкого неприятия и избегания любых упоминаний. Однако, она явно присутствует и в биографии автора, и в его произведении. Писатель, конечно, не стремился описать свой опыт как он есть: его герой любит девушек, но чувства, которые Марсель испытывает к Альбертине, списаны с отношений Пруста с Альфредом Агостинелли.
Можно попробовать восхититься тем, как любовный треугольник из жизни Пруста был воплощен им в литературе (что показывает насколько универсальны по тональности любовное чувство и ревность у разных людей и в разных отношениях), а можно - просто не читать.
4

Стиль данного произведения, как и его основное содержание - вызывают ощущение «заговаривания реальности». Пруст, вопреки его собственному представлению, кажется, не углубляется в суть своих переживаний, а скорее ходит кругами со всё увеличивающимся радиусом. Этот тонущий в деталях и потому избегающий движения к сердцу тьмы стиль рискует очень сильно разочаровать современного человека.
В конце концов, современное искусство - это почти всегда движение к Реальному, к травмирующей компоненте опыта, которую не получится окончательно заболтать и приручить. Марсель Пруст движется в противоположном направлении, что, возможно, давало свой терапевтический эффект - автору, но никак не читателю.
5

Понять Пруста нелегко. А, вероятно, и невозможно. Его псевдоавтобиографическая проза, хотя и стремится обратиться к общечеловеческим мыслям и чувствам, запросто может оставить ощущение, что написана она инопланетянином. Пруст и сам был скептичен насчет легкости понимания авторов: одно из первых больших произведений (ненаписанное) Пруст замыслил как критику метода Сент-Бёва, считавшего биографию автора главным средством для понимания его произведений.
Проблема не только в том, что он был воплощением давно ушедшей эпохи. Пруст был гением, и жил так, словно всегда знал об этом. Задолго до того, как завершил свою первую книгу. Знаменитый «опросник Пруста», который он заполнил в 14 и 20 лет, написан утонченным и ярким человеком.
В то же время, о чувственности и сексуальных странностях этого человека легенды ходили еще при его жизни. В упомянутом опроснике мы можем прочесть, что пороком, к которому юный Пруст чувствует наибольшее снисхождение, является «частная жизнь гениев». Вам точно не понравится «В поисках утерянного времени», если вы не готовы на подобное снисхождение.
Возможно вы не знали:
«Опросник Пруста» написал не Пруст Эта забава пришла во Францию из английских салонов. Однако ответы Пруста оказались столь запоминающимися, что именно с его именем стали связывать эту анкету
Пруст участвовал в дуэли Писатель стрелялся на дуэли с поэтом и романистом Жаном Лореном из-за его разгромной критики на сборник новелл. Единственным условием Пруста было не начинать поединок раньше полудня. Оба стрелка промахнулись, однако секунданты посчитали этого достаточным для восстановления чести каждого.
Монументальный труд Пруста не был никому нужен «В поисках утраченного времени» отказались печатать все крупные издатетельства того времени – «Нувель Ревю Франсез» (ныне «Галлимар»), «Оллендорф» и «Фаскель». Его издал Бернар Грассе, причем за счёт автора (и даже не читая текст).
В поисках утраченного времени – 5
ALEXEY
«Пленница»: Художественная литература; Москва; 1990
МАРСЕЛЬ ПРУСТ
Пленница
ЦИКЛ АЛЬБЕРТИНЫ
Когда в ноябре 1913 года вышел из печати первый том лирической эпопеи Пруста «В поисках утраченного времени», роман «По направлению к Свану», мотив «девушек в цвету» был уже в достаточной степени продуман и разработан писателем. Результаты этих напряженных творческих поисков отразились в богатейшем рукописном наследии Пруста, которое в настоящее время хорошо изучено1. Публикации последних лет, проясняющие творческую историю эпопеи, позволяют проследить зарождение мотива «девушек в цвету», этапы его многолетней отделки и наполнения тем глубоким смыслом, каким этот мотив оказался в конце концов наделен.
Близкий друг писателя, Марсель Плантевинь, несколько самонадеянно приписывал себе изобретение этого мотива2. Думается, описание стайки девушек на берегу моря, столь органически вписывающейся в окружающий пейзаж, не надо было писателю подсказывать. Мотив «девушек в цвету» постоянно возникает на протяжении всей эпопеи и с особой ностальгической силой звучит в завершающей книге - «Обретенном времени». Первоначально, в пору издания романа «По направлению к Свану», «девушки в цвету» и должны были появиться в последней книге: испробовав оба «направления», познакомившись с обеими «сторонами» - Свана и Германтов, - герой-рассказчик должен был попасть на какое-то время «под сень» девушек, что оборачивалось для него в конечном счете препятствием на пути к Искусству.
Если путь по направлению к Свану вел героя в известной мере в мир природы - цветущего боярышника, поросших кувшинками тихих заводей Вивоны, мелькающих среди спокойных полей непритязательных деревенских церквушек, увитых плющом, - то дорога к девушкам недаром пролегала по морскому берегу: восприятие «девушек в цвету» перекликается с ощущением текучести, неустойчивости, изменчивости морских волн, зеленовато-синих, искрящихся, мерцающих, как глаза девушек, и бессмертного шума прибоя. Эти девушки в цвету, словно наяды, резвятся на прибрежном песке, шумной стайкой внезапно появляются на пляже и так же быстро исчезают. Эти девушки-цветы подобны заколдованным персонажам вагнеровского «Парсифаля», которых волшебник Клингсор посылает, дабы заполонить рыцаря-героя; полные необузданных любовных страстей, эти «дочери огня» словно сошли со страниц Жерара де Нерваля (которого так любил Пруст), и одновременно мягкостью полутонов, пленительной симфонией голубого, серого, розового они заставляют вспомнить изысканные полотна Уистлера. Тема «девушек в цвету» переплетается, сливается с темой природы и темой искусства. Но слияние это мимолетно, неуловимо, ускользающе. «Чарующие сочетания девушки с берегом моря, - напишет позже Пруст, - с заплетенными косами церковной статуи, с гравюрой, со всем, из-за чего мы любим в девушке, как только она появляется, прелестную картину, - эти сочетания не очень устойчивы»3.
Пруст снова и снова, без устали возвращается в своих рабочих тетрадях к теме «девушек», в том числе в связи с темой моря и темой искусства, что теперь уже не мешает, а помогает герою познать последнее. Вот почему в тех же тетрадях появляются заметки, посвященные художнику Эльстиру, а знакомство героя с Альбертиной происходит как раз в его мастерской.
Появление стайки девушек должно пробудить в герое первую чисто мужскую чувственность - после еще полудетского увлечения Жильбертой Сван. Возникающее в его душе волнение смутно, лишено на первых порах каких бы то ни было конкретных устремлений и тем не менее остро и сильно. Это столь понятная тяга юноши ко всему женственному, юному, расцветающему, омытому неярким солнцем Нормандии и морскими волнами. Но это тяга и к чисто женскому началу. Так к герою приходит первая подлинная любовь, которая оказывается гигантской неудачей. Мотив взаимоотношений с девушками, любви к одной из них связан с пессимистической мыслью Пруста о невозможности взаимного влечения, разделенной любви, о непреодолимом одиночестве человека - прежде всего в сфере сердечных отношений. Эта изначальная психологическая установка «порождала навязчивую мысль о том, что раз я люблю, то не могу быть любимым, и что женщина может ко мне привязаться только из выгоды»4. Это размышление героя получит дальнейшее развитие в эпопее и станет лейтмотивом взаимоотношений Марселя с Альбертиной.
Через это мучительнейшее самопознание - в любви - проходит в романе еще совсем незрелый мужчина. Это его первое подлинное любовное чувство, первый соответствующий опыт. Можно подумать, что переживания Марселя слишком изломаны, что их характеризует не глубина, а утонченность. Но такое возможно при известной душевной незрелости: это своеобразная игра, нескончаемый эксперимент, когда путем проб и ошибок человек постигает и себя и других.
Впрочем, нельзя не отметить, что первоначально Пруст колебался: в какой-то момент работы над эпопеей под сень «девушек в цвету» он хотел отправить Свана, тем самым показывая, что по-юношески очаровываться можно в любом возрасте и с любым опытом за плечами (что и случилось со Сваном в пору его тяжелого увлечения Одеттой). Но вскоре писатель переадресовывает увлечение девушками. Отныне это удел героя-рассказчика. И поэтому связанные с ними эпизоды резко передвигаются ближе к началу повествования, во второй том эпопеи, в роман «Под сенью девушек в цвету». В описанной в первом томе мучительной любви Свана к Одетте герою не все еще было понятно, многое казалось странным, нелогичным, преувеличенным. Теперь он переживает сильное любовное чувство сам, сам его тщательно анализирует и переживает его, пожалуй, совсем по-другому, не как Сван, стараясь довести свой анализ до конца и этим чувство не только понять, но и преодолеть.
Перенесение этого мотива во второй том эпопеи имело глубокий смысл. Менялась не только внешняя сюжетная структура повествования, хотя и это изменение было весьма существенным. Тема взаимоотношений с девушками, а затем тема любви к одной из них оборачивалась решением кардинальных проблем человеческих взаимосвязей. В данном случае в столь тонкой и одновременно столь всеобъемлющей сфере, как любовь. Через познание любви, себя в любви и своего партнера по любовному чувству герой шел к познанию общества, природы, искусства, жизни. Вот почему «цикл Альбертины» постепенно занял не просто центральное, но важнейшее место в эпопее Пруста.
Вот почему в черновых рукописях писателя сохранилось так много набросков, связанных с Альбертиной и ее «стайкой».
В рабочих тетрадях, относящихся к первой половине 1909 года, контуры «девушек в цвету» еще весьма приблизительны. Еще нет их индивидуализированных портретов. Это не столько изображение самих девушек, сколько впечатления от них: это яркие цветные пятна на фоне морского пейзажа. Но постепенно краски начинают сгущаться, а наброски девушек обретать четкие контуры. В стайке появляется свой лидер (в конце концов им станет подруга Альбертины Андре) и основной центр притяжения для героя. Пруст как бы примеряет к ней имя (сначала просто Испанка, потом Анна, Мария, наконец, Альбертина), фамилию (Букето, Букто, Симоне), внешний облик. Он колеблется, пробует, ищет. «Четвертая из девушек была брюнеткой, - читаем мы в одном из набросков, - но она отличалась от первой, в ней было что-то от смуглой испанки; черты лица у нее были правильные, замечательные глаза; была в ней какая-то сила, веселость, ум, живость и всеобъемлющая мягкость; соскочив с лошади, она готова была снова тут же сесть в седло, она появлялась на какое-то мгновение, в просвете своей спортивной жизни, и это выделяло ее в моих глазах из всех смертных, но одновременно заставляло меня чувствовать, что весь мой облик, посмотри она на меня, вызвал бы у нее презрение»5. Сначала герой и автор колеблются между этой спортивной брюнеткой и голубоглазой блондинкой, напоминающей пансионерку из католического монастыря. Но от тетради к тетради, от наброска к наброску облик будущей Альбертины все более уточняется и конкретизируется.
Как всегда у Пруста, у этого его персонажа множество прототипов. Не без основания полагают, что в облике Альбертины совместились черты Мэри Нордлингер, молодой англичанки, занимавшейся немного живописью и обожавшей кататься на велосипеде, а также актрисы Луизы де Морнан, возлюбленной одного из друзей писателя. С той и другой Пруст много встречался в первые годы века; Мэри помогала ему в его занятиях Рёскиным, Луиза внушила писателю довольно сильное чувство. По крайней мере так она полагала, когда вспоминала в 1928 году: «Между нами возникло нечто вроде любовной дружбы, где не было ничего ни от банального флирта, ни от открытой связи; со стороны Пруста это было очень сильное увлечение, в котором проглядывали, конечно, нескрываемые желания, с моей же стороны это была склонность более чем товарищеская, глубоко затронувшая тогда мое сердце»6. К этому, видимо, приложились воспоминания о юношеском увлечении Пруста Марией Финали, с которой он встречался еще будучи лицеистом, а также целый ряд других впечатлений и личных переживаний писателя (вплоть до сложных отношений с его секретарем Альфредом Агостинелли). Но в облике Альбертины, в ее характере, в ее взаимоотношениях с героем нет ничего от примет каких-то реальных знакомых писателя. Образ Альбертины не только не скомпонован из отдельных черточек Мэри или Луизы, но целиком задуман, продуман, выдуман Прустом, являясь плодом его творческой фантазии.
К 1913 году место Альбертины в структуре романа было окончательно определено, были намечены отдельные связанные с девушкой эпизоды. Так, в первой половине 1913 года Пруст записывает в одной из рабочих тетрадей: «Девушки. Я знакомлюсь с ними благодаря художнику. Я влюбляюсь в Альбертину. Смогу ли я увидеться с вами в Париже? Не так-то это просто. Андре очень мила. Игра в веревочку. Надежда. Разочарование. Сцена в постели. Окончательное разочарование. Намерение вернуться к Андре. Воспользоваться ее податливостью, чтобы подействовать на Альбертину. Отказ от Андре. Париж. Госпожа де Германт. Визит к госпоже де Вильпаризи. М. не знает, кто это. Мадмуазель Альбертина. Смерть бабушки. Монтаржи и госпожа де Силарья. Визит Альбертины, она меня щекочет. Лесной остров. Вечер у госпожи де Вильпаризи. Круг Германтов. Я веду жизнь больного. Приглашение к принцессе Германтской. Я решаю в этот вечер подать знак Альбертине. Я отправляюсь в Бальбек, ибо всех там знаю. Я обращаю внимание на поведение Альбертины и Андре. Танцуют, прижавшись грудью»7. Как видим, здесь уже перечислены эпизоды, которые войдут в романы «Под сенью девушек в цвету», «У Германтов», «Содом и Гоморра» (Сен-Лу носит здесь еще имя Монтаржи, а г-жа Стермарья - г-жи Силарья). Нет здесь еще мотива перебоев чувства и пленения девушки, но это, как сейчас увидим, уже очень давно обдумывалось Прустом.
Однако тема Альбертины, ее место в эпопее было окончательно определено лишь к 1915 году. В большом письме к своей приятельнице Марии Шайкевич (ноябрь 1915 года) Пруст пересказывает основное содержание очередных книг - он не называет их, да и не знает еще сам их названий. И здесь уже есть сильное увлечение Альбертиной, полубеспричинная ревность, решение жениться на ней, жизнь с ней вдвоем, когда девушка становится фактической пленницей героя, усталость от этой связи, желание расстаться, бегство Альбертины, ее поиски и т. д.
Но еще в 1908 году, то есть тогда, когда писатель лишь начинал обдумывать основные контуры своего творения, он вносит в записную книжку следующий текст: «Во 2-й части романа девушка разорится, я буду ее содержать: но без попыток обладать ею из-за неспособности к счастью»8. И снова, в той же записной книжке: «Во второй части девушка разорится, будет у меня на содержании, но я не буду наслаждаться ею (как мадмуазель Жорж и американец, Луиджа и Сальнов) из-за неспособности быть любимым»9. Итак, мотив девушки-пленницы и мотив невозможности любви относятся едва ли не к изначальным. Но тогда Пруст не знал еще, как воплотить это в конкретное повествование.
Итак, Альбертина впервые появляется на страницах романа «Под сенью девушек в цвету»; мы снова встречаемся с нею в романе «У Германтов», но здесь она не играет значительной роли, Она посещает героя, и у них постепенно устанавливаются те отношения, которым будут затем посвящены три следующие части эпопеи. Это и есть собственно «цикл Альбертины». Он получает многозначительное (но совсем не многозначное) название - «Содом и Гоморра» («Пленница» и «Беглянка» - лишь подзаголовки). В этом цикле взаимоотношения с Альбертиной, столь выдвинутые отныне на первый план, становятся, однако, сопутствующим, да и во многом ключевым, «разрешающим» мотивом в познании героем светского общества, разочарования в нем, а также познания им самого себя и как бы находящегося в нем самом - но и вне его - мира искусства и мира природы, столь тесно связанных между собой. Далеко не случайно вместе с Альбертиной появляются в эпопее Пруста такие заметные персонажи, как художник Эльстир, как барон Шарлю, и такой важный мотив, как побережье Нормандии с ее скалами, пляжами, морскими далями и незатейливой архитектурой.
Уже в романе «У Германтов» брошен взгляд в будущую трилогию: «После долгой совместной жизни, - размышляет герой, - я видел в Альбертине самую обыкновенную женщину, но достаточно было ей начать встречаться с мужчиной, которого она, быть может, полюбила в Бальбеке, - и я вновь воплощал в ней, сплавлял с нею прибой и берег моря. Но только повторные эти сочетания уже не пленяют нашего взора и зловещей болью отзываются в нашем сердце»10. Это, однако, была лишь прелюдия к тому воспитанию чувств героя, напряженная картина которого столь глубоко и многообразно развернута в собственно «цикле Альбертины».
Это мучительное воспитание, как и взаимоотношения с девушкой, проходят несколько этапов. В «Содоме и Гоморре» перед читателем открывался гигантский всплеск любовного чувства, его болезненные перебои, страдания и терзания, повинен в которых очень часто оказывался сам герой - его подозрительность и ревность. Только лишь любовь трудная, во многом несчастливая, с точки зрения писателя, заслуживала внимания, представляла какой-то интерес, была достойна ею же причиняемых страданий. Поэтому-то герой создает в своем сознании в достаточной степени воображаемый, условный образ возлюбленной: «Моя судьба, - признается он, - гоняться за призраками, за существами, большинство которых существует только в моем воображении». Отсюда - то переживание жизни, переживание чувства, которым наполнен роман.
В следующей книге эпопеи, в романе «Пленница», перед нами не столько герой страдающий, сколько анализирующий. И в «Содоме и Гоморре» он не был чужд анализирования психологии и себя самого, и своей возлюбленной. Он и там ставил психологические опыты, то намекая Альбертине на свою увлеченность Андре, то признаваясь ей, что давно и сильно любит другую женщину. В «Содоме и Гоморре», впрочем, это были эксперименты мимолетные, занимавшие, конечно, сознание героя, но ставившиеся им от случая к случаю и не менявшие существенным образом хода повествования. Фабулы книги они не затрагивали. В «Пленнице» - все совсем иначе. Весь роман - это чистый эксперимент. Пруст ставит здесь даже двойной эксперимент. Как рассказчик, он берется наполнить целый том фактически ничем - однообразными подозрениями героя, его навязчивой ревностью, когда предмет ревности, в общем, не дает для этого конкретных поводов. Как он справился с этим экспериментом, мы скажем ниже. Но Пруст в этой книге производит и другой опыт: он заставляет героя-рассказчика буквально заточить возлюбленную в четырех стенах своей парижской квартиры, да и самому решиться на затворничество. Ведь пленником в книге оказывается не одна Альбертина. В точно такой же плен попадает и Марсель. Для него это, бесспорно, плен добровольный, им регламентируемый и не такой абсолютный, как для девушки. И все же это тоже неволя, связанность, затворничество. Для Альбертины же это буквальный плен - невозможность в полной мере распоряжаться собой, ходить куда и когда заблагорассудится, встречаться с кем угодно. Для героя - это плен во многом психологический и эмоциональный: Марсель настолько сосредоточен на своей любви и продиктованных ею недоверии, сомнениях, ревности, что это отнимает у него возможность интересоваться чем-либо иным, кроме Альбертины. Не приходится удивляться, что оба этим глубоко тяготятся, хотя не признаются в этом друг другу. Как полагает Пруст, любовь не только тяжелая болезнь, но и столь же мучительная неволя.
Полного отшельничества, конечно, не получается. Но стоит отметить: здесь рядом с героем нет ни матери, ни близких друзей - Сен-Лу и Блока (последний эпизодически появляется в черновых рукописях, но связанные с ним сцены были старательно вычеркнуты Прустом). Можно предположить (как это делает Жан-Ив Тадье11), что Альбертина заменяет герою не только других женщин, которых он когда-то любил (и Жильберту, конечно, в первую очередь), но даже мать. Это не совсем так. Такое было бы возможно лишь при всеобъемлющей, всепоглощающей любви героя к девушке, но такой любви нет и в помине. Уединение героя нарочито искусственно, это часть сознательно поставленного опыта; это помогает ему не отвлекаться, с холодным рассудком анализировать себя, свое чувство, но в еще большей мере - чувства девушки и вообще Альбертину как таковую. Если «Содом и Гоморра» во многом была книгой о любви и ревности, то «Пленница» - это роман о предмете любви и о неизбежности разрыва.
Оказавшись с Альбертиной с глазу на глаз в его парижской квартире (где лишь служанка Франсуаза разделяет их одиночество), герой внимательно присматривается к девушке, стремится понять ее, проникнуть в ее сокровенные мысли. Но делается это совсем не из-за любви. Любовь почти угасла, и общество узницы даже тяготит Марселя. Для него ясно с самого начала, что разрыв неизбежен: и потому, что острота любви прошла, и потому, что молодой человек никогда не интересовался девушкой как таковой, и потому, что в его концепции любви всякая связь неминуемо придет к разрыву. Вот только произойти это может очень нескоро, после долгих недель взаимных терзаний или взаимного равнодушия.
В самом начале их связи у Марселя сложилось такое представление об Альбертине, которое было очень далеко от реальности. То она казалась ему мягкой и искренней, доверчивой и послушной, то порочной и лживой. Живя с ней в Париже, герой все более убеждается в ее врожденной неискренности. Первое ее побуждение, еще без участия разума, - это солгать. И делает она это артистически, вдохновенно и, если угодно, даже бескорыстно, даже в чем-то во вред себе. И на первых порах эта ложь не отталкивает, не возмущает; даже напротив, в ней есть что-то таинственно-притягательное, какая-то загадочность, какие-то смутные посулы и едва уловимые обещания. И при этом возлюбленная не скрывает еще своего прошлого. Наоборот, она как бы кичится им, этим прошлым, подсознательно понимая, что этим она притягивает и очаровывает. «В течение первого периода, - отмечает писатель, - женщина почти свободно, с небольшими смягчениями говорит о том, как она любит удовольствия, о своих прежних любовных похождениях, обо всем, что она будет с пеной у рта отрицать к разговоре с тем же самым мужчиной, в котором она почувствовала ревнивца». А так как ревнивцем, в той или иной мере, оказывается каждый мужчина, то каждому мужчине возлюбленная в конце концов начинает лгать. Эти наблюдения рассказчика относятся, конечно, к конкретной девушке, к Альбертине Симоне, то ли любовнице, то ли невесте героя, живущей в его доме непонятно на каких правах (что так возмущает Франсуазу). Но, верный своим творческим принципам, из анализа характера и поведения конкретной девушки Пруст стремится делать обобщающие выводы - в духе нравственных афоризмов и максим столь любимых им Ларошфуко, Лабрюйера, Сен-Симона и других писателей-моралистов XVII - XVIII веков. Следует отметить, вслед за Ан. Анри12, что в этой книге Пруста становится заметно больше обобщающих формулировок, четко продуманных и стилистически отточенных. Особенно это относится к тщательно анализируемому писателем чувству ревности, которое и теперь продолжает занимать его, хотя, казалось бы, уже все здесь сказано в предыдущем томе. Возможно, Пруст использует заготовки из своих рабочих тетрадей разных лет, перерабатывая их, добиваясь афористической лапидарности и блеска13. Но все эти рассуждения, подчас глубокие и верные, порой же нарочито парадоксальные, во многом повторяют то, о чем уже говорилось ранее. Вложенные в уста героя-рассказчика, они звучат теперь несколько иначе, чем в «Содоме и Гоморре». Ныне чувство ревности, мучительное, эгоистическое и мазохистское, утрачивает свое созидательное, конструктивное начало. Оно и раньше не только порождало, обостряло, подхлестывало чувство любви, но и подтачивало, исподволь разрушало его. Здесь, в «Пленнице», перед нами результаты этой деятельности: уже нет и речи ни о нежности, ни о каком-то сродстве душ, взаимопонимании и взаимоощущении, о духовной близости и о со-переживании внешних и внутренних коллизий жизни, о со-страдании (в старинном значении этого слова) как высочайшей степени слиянности двух любящих существ. Вместо этого герой обуреваем даже не ревностью, не подозрениями и сомнениями, приводившими раньше к болезненным страданиям, а просто каким-то любопытством и спортивным азартом: он непременно хочет поймать Альбертину на противоречиях, на лжи, запутать ее, заманить в психологическую ловушку. То есть и здесь герой лепит воображаемый образ девушки, по сути дела борется со сконструированным его фантазией фантомом.
Исповедальная беспощадность самоанализа сменяется в этой книге аналитической отстраненностью, когда в мыслях героя все время присутствует налет ретроспекции, изучения того, что было и прошло, чему нет и не может быть возврата. Этому, казалось бы, противостоит сюжетное развертывание романа, но направление повествования и направление эволюции чувства часто не совпадают. И вот тогда обнаруживается, что поставленный героем опыт неудачен; сидит ли Альбертина взаперти в Париже, разъезжает ли с подружками на велосипеде по окрестностям Бальбека, сомнения и тревоги одинаково если и не терзают, то занимают героя, ибо все это призраки, старательно создаваемые его сознанием.
И вот получается, что любить можно лишь призрак, возникший в нашем воображении, обозначенный какими-то чертами, свойствами, признаками. Открывая их в возлюбленной или обнаруживая их вопиющее отсутствие, можно попытаться возродить былую любовь, которая готова совсем угаснуть. Поэтому прустовский герой продолжает наделять возлюбленную воображаемыми достоинствами и недостатками и следом за этим принимается искать их в живущей в его доме девушке, покладистой, всегда на все согласной, обычно молчаливо терпящей его капризы и его подозрения.
Итак, как и в «Содоме и Гоморре», в «Пленнице» большое внимание уделено чувству ревности, которая, конечно, продолжает оставаться оборотной стороной любви, порождаться ею и порождать любовь. Но теперь, в этом романе, дана психологически выверенная и тонкая картина умирания любви. Пруст со свойственным ему душевным пессимизмом уверен в роковой неизбежности последнего. Интерес к Альбертине уже позади, герою нечего теперь в ней открывать; ее занятия, ее интересы его уже совершенно не занимают. Да, в душе каждого мужчины живет профессор Хиггинс, который хочет не только переформировать, перестроить возлюбленную по его собственным меркам, но - что существеннее - подчинить ее себе, лишить индивидуальности, ее изначальных черт. «Мы скульпторы, - пишет Пруст. - Мы стремимся вылепить из женщины статую, совершенно не похожую на женщину, какой она перед нами предстала». Но так было в какой-то мере раньше. В черновых набросках к роману сама Альбертина признается, что находится под большим интеллектуальным влиянием Марселя, что явно изменилась после встречи с ним. Но показательно, что Пруст эти признания героини из основного текста книги в основном исключил. Они ему были уже не нужны. Не нужны, так как в «Пленнице» возникает новый мотив - полной отчужденности, растущей взаимной враждебности, когда становится уж совсем непонятно, зачем они живут вместе и мучат друг друга или сносят эти мучения.
Что же удерживает рядом этих чужих друг другу людей? Что препятствует их разрыву? Что касается Альбертины, то тут герой-рассказчик (и сам Пруст) к ней неоправданно суров. Альбертина по-своему любит Марселя, испытывает к нему благодарность и нежность. Да, она, конечно, надеется на замужество, но никак не форсирует его. Она покорна, податлива, а в изъявлении своих чувств даже ленива. Она слабо, не очень убедительно возражает на подозрения и упреки молодого человека, иногда сердится на его назойливые, утомительные и, бесспорно, подчас обидные для нее расспросы. Она пассивно выслушивает его рассуждения о неминуемом конце, соглашается уехать, но уезжает все-таки внезапно, совсем не тогда, когда герой этого ждет. В ней как бы живет свойственное не очень умным женщинам желание оставить за собой последнее слово, «хлопнуть дверью» последней.
А герой действительно все время твердит о разрыве. И делает он это совсем не для того, как порой случается, чтобы услышать от Альбертины, что расставание невозможно. Нет, это опять все его психологические эксперименты. «Когда я писал Жильберте, - признается Марсель, - что мы больше не увидимся, я в самом деле намеревался порвать с ней, с Альбертиной же я искал примирения, и все, что я ей говорил, была сплошная ложь». Его заставляет удерживать в своем доме девушку желание доказать правоту и обоснованность своих подозрений; вот эта неясность относительно характера и наклонностей Альбертины, вызываемая этой неясностью мучительная тревога и заставляет героя продолжать бесцельно копаться в прошлом девушки и изводить ее каждодневными допросами. И еще. «Передо мной был выбор, - размышляет рассказчик, - перестать страдать или перестать любить». С любованием своими страданиями он расстаться не может, любовь же настолько безоговорочно прошла, что поддерживается остатками ревности, уже совершенно рассудочной и неискренней даже, привычкой («В любви, - отмечает писатель, - легче потерять чувство, чем утратить привычку»), сознанием неизбежности конца, который в нашей воле лишь несколько отдалить. «Всякая любовь и вообще все на свете быстро движется к прощанию», - пишет Пруст. Поэтому разговоры о разлуке, которые ведет Марсель с Альбертиной, только кажутся наигранными, в действительности они лишний раз указывают на ее неизбежность. Марсель-то знает, что все эти разговоры и пересуды о неотвратимости конца ни к чему не приведут, пока один из любовников не возьмет все на себя и не разорвет столь затянувшиеся и столь мучительные для обоих отношения. Один из двоих должен бежать, оборвать все связи, постараться не «бередить рану перепиской». Итак, это делает Альбертина как более непосредственная, где-то более искренняя и импульсивная. И, если угодно, более молодая: при чтения книги не оставляет ощущение, что девушка значительно моложе героя, хотя в действительности это не так. Просто она более натуральна и более здорова в своих душевных движениях, хотя и не без основания подозреваема в некоторых противоестественных склонностях. Но и они - как бы от избытка молодости, здоровья, жизненных сил.
Иногда полагают, что «Пленница» и «Беглянка» мало что прибавляют к характеристике персонажей и ничего не вносят в развитие сюжета14. Такая точка зрения вряд ли верна. «Цикл Альбертины» представляет собой нерасторжимое целое, а отдельные его части неплохо пригнаны друг к другу. Без пленения девушки и затем без ее бегства любовный опыт героя, столь важный на его пути к обретению правды жизни и правды искусства, не был бы завершен. В «Пленнице» анализ человеческой психологии - и опять-таки в сфере любви - продолжается, достигает новой углубленности и тонкости.
Полное охлаждение к Альбертине, неистребимое желание с ней расстаться, поиски для этого решающего шага необходимого компрометирующего «материала» - все это не мешает герою восхищаться какой-то законченной, завершенной - не классически совершенной, нет! - но спокойной, уравновешенной, гармоничной красотой девушки. Между прочим, здесь, в этой книге, перед читателем появляется совсем уже иная Альбертина, не та, что лихо ездила на велосипеде или отплясывала в бальбекском казино. Она стала не только пассивной и малоподвижной; в ней появилась плавность движений и изящнейшая округлость форм уже созревшей женщины в пору полного своего расцвета. Утратив для героя интерес, не внушая ему больше «перебоев чувства», девушка сохраняет всю свою обольстительность. Пластическая законченность линий спящей Альбертины вызывает в памяти героя-рассказчика картины совершенной природы. Сама девушка кажется ему «длинным цветущим стеблем», а атмосфера ее сна вызывает острое ощущение не просто когда-то виденных, но глубоко воспринятых, пережитых пейзажей. «Ее сон, - рассказывает Марсель, - распространял вокруг меня нечто столь же успокоительное, как бальбекская бухта в полнолуние, затихавшая, точно озеро, на берегу которого чуть колышутся ветви деревьев, на берег которого набегают волны, чей шум ты без конца мог бы слушать, разлегшись на песке». Так Альбертина сливается с прекрасной природой, становится частью природы, возвышенной и вечной. И это резко меняет отношение героя к своей пленнице: «В эти мгновения я любил ее такой же чистой, такой же идеальной, такой же таинственной любовью, какою я любил неодушевленные создания, составляющие красоту природы». Вот в этом, быть может, таится объяснение несколько странного поведения Марселя, который как бы видит насквозь Альбертину, видит ее мизерное тщеславие, ее лживость, узость ее интересов и тем не менее все тянет и тянет эту мучительную для обоих жизнь вдвоем.
Описание спящей Альбертины - одни из лучших страниц книги (недаром Пруст отдал их для публикации в журнале). Девушка выступает здесь не только как часть природы, ее высшее создание, но и как нечто нерасторжимо связанное с искусством. Тема искусства, как всегда в книгах Пруста, играет в «Пленнице» очень большую роль. Здесь эта тема не противостоит другим, - скажем, темам Содома и Гоморры, - она вырастает из них и их стирает, уничтожает, сводит на нет.
Один из центральных эпизодов книги - и эпизод очень длинный (но совсем не затянутый!) - это музыкальный вечер у Вердюренов. Он заканчивается некрасивой ссорой барона де Шарлю с его «протеже» - скрипачом Морелем и изгнанием барона из салона. Так на уровне фабулы. Но смысл этого эпизода в другом. Так ярко, зло, смешно описанный Прустом светский скандал как бы отходит на задний план, теряется, выглядит ничтожным перед вечным величием музыки.
Описание исполнения Морелем септета Вентейля, верное, самой музыки, отрывающейся от ее земного интерпретатора, позволяет Прусту дать - еще раз - свое понимание искусства как высшей реальности, где переплетаются и наш обыденный опыт, и воспоминания об увиденных когда-то картинах природы и городах, о прочитанных книгах, о продуманном, понятом и пережитом.
Не случайно Пруст пишет о самом абстрактном из искусств - о музыке, наиболее индивидуальном и субъективном для человеческого восприятия. Музыка - и вообще искусство - оказывается действительностью более правдивой, более достоверной и реальной, чем живая жизнь. Это происходит оттого, что к звукам, краскам, сочетаниям слов присоединяется внутреннее переживание, осознание, осмысление каждого конкретного слушателя, зрителя, читателя и всех их вместе. А случайное, необязательное, ненужное в жизни искусством отсеивается и отбрасывается. Подлинное большое произведение искусства воплощает в себе всю жизнь, опыт поколений, мгновенность восприятия, но одновременно и некую неповторимую, совершенно уникальную самодостаточность и самоценность. И здесь Пруст не противопоставляет величие шедевра профессиональному мастерству, мастеровитости, а видит их неразрывную связь. «Не виртуозность ли, - спрашивает Пруст, - создает у великих художников иллюзию врожденной неукротимой единственности, на поверхностный взгляд - отсвет иного бытия, на самом деле - плод изощренного мастерства?»
Повторяем, Пруст не случайно видит в музыке вершину искусства. Музыка трудна для индивидуальной интерпретации, но одновременно - очень открыта, доступна для нее. И программность музыки не исключает множественности ее истолкования, ее многозначности и отзывчивости, Уже не герой-рассказчик, не юный Марсель, а сам писатель Пруст делится с нами своими глубокими мыслями о музыке, об искусстве, об их сложной связи с жизнью, об обусловленности искусства жизнью и жизни - искусством.
«Когда я отходил от гипотезы, - размышляет писатель, - что искусство может быть реальным, мне казалось, что музыка способна вернуть нам не просто бурную радость погожего дня или ночь после принятия опиума, но опьянение более реальное, более плодотворное, во всяком случае - такое, какое я предчувствовал. Однако нельзя себе представить, чтобы скульптура или музыка, рождающие чувство более возвышенное, чистое, подлинное, не соответствовали некоей духовной реальности, иначе жизнь теряет всякий смысл. Я мог бы сравнить только с прекрасной фразой Вентейля то особое наслаждение, какое мне иной раз приходилось испытывать в жизни, например при взгляде на мартенвильские колокольни, на деревья по дороге в Бальбек или, если взять для примера что-нибудь попроще, во время чаепития, о чем я писал в начале моей книги. Подобно чашке чаю, световые ощущения, прозрачные звуки, шумные краски, которые Вентейль посылал нам из мира, где он творил, представляли моему воображению - представляли непрерывно, но так быстро, что я не в силах был его задержать, - нечто такое, что я мог бы уподобить только пахнущим геранью шелковым тканям».
Так искусство становится не подменой жизни, а самой жизнью, жизнь же становится искусством. В иных случаях высокой эстетической ценностью бывают отмечены, например, счастливые сочетания времени года, пейзажа и архитектуры (таковы в самом конце книги мечты героя о весенней Венеции, куда он все время собирается и куда поедет наконец в «Беглянке», - еще голая природа, солнце, вода и отражающиеся в ней великие архитектурные памятники). Но искусством становится и просто пробуждающаяся или, напротив, увядающая природа, и уличные шумы, вроде столь поэтично описанных Прустом утренних выкриков городских разносчиков и торговцев.
Не подменой жизни, а подлинной жизнью в ее слиянности с искусством становится картина Вермеера «Вид Дельфта», которую пришел еще раз увидеть на голландской выставке смертельно больной Бергот. Его потрясает и умиротворяет даже не сама картина, а лишь ее деталь - кусочек желтой городской стены, так выразительно, так проникновенно прекрасно написанной художником. И символично, что писатель умирает перед этой картиной, поняв ее непреходящую правду.
Искусству и жизни, искусству как жизни противостоит в книге жалкий в своем глупом тщеславии, отталкивающих пороках, совершенно одинокий барон Шарлю. Перед нами - все в том же длинном описании музыкального вечера у Вердюренов - происходит окончательное развенчание этого персонажа (Шарлю выглядит в этой сцене не только опустившимся, неприятным, но и жалким), а также, по сути дела, крушение, полная гибель престижа этого салона, который окончательно лишается в глазах героя какой бы то ни было притягательности. Мы знаем, что Пруст был очень болен, а поэтому торопился. Тем не менее сцена у Вердюренов написана с безошибочной выверенностью пропорций, без излишнего «нажима». Сатирическое мастерство Пруста достигает в этой сцене особого блеска и силы. Писатель и здесь варьирует свои краски, пользуется полутонами, переходит от иронии к гротеску, от резких сатирических нот к юмору, к комическому, и тут же - к напряженному драматизму.
Характерно, что рассказ о пошлом светском скандале следует за страницами, посвященными музыке и полными высочайшего, проникновеннейшего лиризма и философской глубины. Искусство делает мелкими, ничтожными и профессора Бришо, и Ского, и других вердюреновских гостей. Это не значит, что Пруст отвергает все светское общество. Отдельные представители аристократии продолжают интересовать героя, они ему попросту нравятся - какой-то жизненной силой, естественностью, укорененностью в родной почве, с которой их связывает длинная череда поколений. Поэтому Марселю симпатична и герцогиня Германтская с ее чуть мужицкими манерами, и новый персонаж эпопеи - королева Неаполитанская.
Итак, Пруст приходит к выводу, что ни психологический эксперимент героя, ни его собственный писательский эксперимент не удались. Марселю ничего не дало его отшельничество с девушкой. А мысль писателя все время как бы рвется на волю из пустой квартиры с тщательно закрытыми окнами; описание любовных переживаний героя-рассказчика все время прерывается и разрывается повествованием о внешней, о живой жизни - от утренних уличных шумов осеннего Парижа до аристократических салонов и огромного вечного мира природы и искусства.
«Цикл Альбертины» был посвящен в основном любви. Ее редким радостям, нескончаемым горестям, ее тревогам, сомнениям, надеждам, ее отклонениям и изгибам. И, видимо, как раз поэтому он очень печален. Атмосфера щемящей грусти создается, конечно, и соответствующим настроением героев, уходом из жизни Свана и Бергота, тем, что художник Эльстир не появляется больше в посещаемых героем салонах. Последние заметно пустеют. Но все-таки именно любовь, такая мимолетная, такая хрупкая, такая обреченная, сообщает трилогии отсвет печали. Потому что - по Прусту - любовь всегда приносит только страдания, в какой-то мере просто невозможна и уж непременно несется на всех парусах к своему печальному концу. В этих книгах эпопеи герой расстается с юношеской мечтой о любви, как и со многими другими иллюзиями, расстается с самой юностью, а такое расставание не может не наполнять сердце грустью. «Быть может, любовь, - размышляет герой, - это струи за кормой, которые после волнения всколыхивают душу». И снова: «Наша любовь - это, быть может, и есть наша грусть». Любовь не приносит, не может принести счастья, но прощание с ней нестерпимо больно. «Любовь, - пишет Пруст в конце „Пленницы“, - это пространство и время, отзывающиеся болью в сердце».
А. Михайлов
ПЛЕННИЦА
По утрам, лежа лицом к стене и еще не видя над длинными занавесками, что за оттенок у полоски света, я уже знал, какая сегодня погода. Я догадывался об этом по первым уличным шумам, которые доходили до меня то приглушенными и искаженными влажностью, то визжавшими, как стрелы, в звонкой и пустой тишине воздуха - тишине емкого, холодного, ясного утра; прислушиваясь к первому трамваю, я определял, мокнет ли он под дождем или же мчится навстречу безоблачному небу. А может быть, шумам предшествовала их более стремительная и более юркая эманация: проскользнув в мой сон, она с грустью предвозвещала, что сейчас пойдет снег, или заставляла крохотного человечка петь во мне с перерывами одну за другой песни во славу солнца, так что, сколько я ни улыбался во сне, сколько ни смыкал веки, которые вот-вот должны были замигать от света, в конце концов меня все-таки пробуждало оглушительное пение. В этот период времени внешний мир проникал ко мне главным образом через мою спальню. Блок15, насколько мне было известно, рассказывал, что, когда он приходил ко мне по вечерам, ему слышалось, будто я с кем-то разговариваю; так как моя мать жила тогда в Комбре и так как в моей комнате никого, кроме меня, не было, он думал, что я разговариваю сам с собой. Потом, узнав, что в моем доме живет Альбертина, и поняв, что я прячу ее от всех, он именно этим объяснял, почему я никуда не выхожу из дому. Он ошибался. Ошибка простительная, потому что в действительности, даже если ошибка как будто не подлежит сомнению, не все можно предусмотреть; те, кто узнает достоверную черту из жизни друга, тотчас же делают неправильные выводы и этому новому для них явлению дают совершенно неверное истолкование.
Стоит мне вспомнить теперь о том, что по возвращении из Бальбека Альбертина стала жить в Париже под одной крышей со мной, что она отказалась от мысли о морском путешествии, что она расположилась в двадцати шагах от меня, в конце коридора, в обитом штофными обоями кабинете моего отца, и что по вечерам, очень поздно, она на прощание просовывала свой язычок ко мне в рот, точно ежедневную пищу, как бы обладавшую питательными свойствами и почти чудодейственной силой для всей плоти, силой, благодаря которой боль, какую мы оба вытерпели из-за нее же, из-за Альбертины, превращалась в нечто вроде душевного умиротворения, в моем воображении мгновенно возникает не та ночь, когда капитан Бородинский разрешил мне переночевать в казарме,16 - его поблажка излечивала мнимое мое заболевание, - а ту ночь, когда отец позволил матери спать в моей кровати, со мной рядышком.