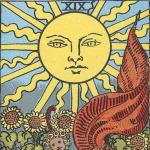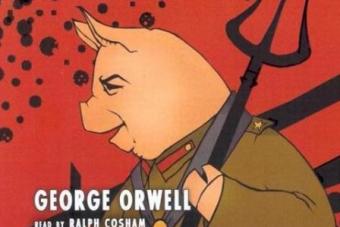«Могучая кучка» — творческое содружество русских композиторов, сложившееся в конце 50 — начале 60-х гг. 19 века. Известно также под названием «Новая русская музыкальная школа», Балакиревский кружок. В «Могучую кучку» входили М. А. Балакирев, А. П. Бородин, Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков. Временно примыкали к ней А. С. Гуссаковский, H. H. Лодыженский, Н. В. Щербачёв, отошедшие впоследствии от композиторской деятельности. Источником образного наименования послужила статья В. В. Стасова «Славянский концерт г. Балакирева» (по поводу концерта под управлением Балакирева в честь славянских делегаций на Всероссийской этнографической выставке в 1867), которая заканчивалась пожеланием, чтобы славянские гости «навсегда сохранили воспоминания о том, сколько поэзии, чувства, таланта и умения есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов». Понятие «Новая русская музыкальная школа» было выдвинуто самими членами «Могучей кучки», считавшими себя последователями и продолжателями дела старших мастеров русской музыки — М. И. Глинки и А. С. Даргомыжского. Во Франции принято название «Пятёрка» или «Группа пяти» («Groupe des Cinq») по числу основных представителей «Могучей кучки».
«Могучая кучка» — одно из вольных содружеств, которые возникали в пору демократического подъёма 60-х гг. 19 в. в различных областях русской художественной культуры с целью взаимной поддержки и борьбы за прогрессивные общественные и эстетические идеалы (литературный кружок журнала «Современник», «Артель художников», «Товарищество передвижных художественных выставок»). Подобно «Артели художников» в изобразительном искусстве, противопоставившей себя официальному курсу Академии художеств, «Могучая кучка» решительно выступала против косной академической рутины, отрыва от жизни и пренебрежения современным требованиями, возглавив передовое национальное направление в русской музыке. «Могучая кучка» объединила наиболее талантливых композиторов молодого поколения, выдвинувшихся в конце 50 — начале 60-х гг., за исключением П. И. Чайковского, который не входил ни в какие группы. Руководящее положение в «Могучей кучке» принадлежало Балакиреву (отсюда — Балакиревский кружок). Тесно связан с ней был Стасов, сыгравший важную роль в выработке общих идейно-эстетических позиций «Могучей кучки», в формировании и пропаганде творчества отдельных её членов. С 1864 систематически выступал в печати Кюи, музыкально-критическая деятельность которого во многом отражала взгляды и тенденции, присущие всей «Могучей кучке». Её позиции находят отражение и в печатных выступлениях Бородина, Римского-Корсакова. Центром музыкально-просветительской деятельности «Могучей кучки» явилась Бесплатная музыкальная школа (создана в 1862 по инициативе Балакирева и Г. Я. Ломакина), в концертах которой исполнялись произведения членов «Могучей кучки» и близких ей по направлению русских и зарубежных композиторов.
Основополагающими принципами для композиторов-«кучкистов» были народность и национальность. Тематика их творчества связана преимущественно с образами народной жизни, исторического прошлого России, народного эпоса и сказки, древними языческими верованиями и обрядами. Мусоргский, наиболее радикальный из членов «Могучей кучки» по своим художественным убеждениям, с огромной силой воплотил в музыке образы народа, многие его произведения отличаются открыто выраженной социально-критической направленностью. Народно-освободительные идеи 60-х гг. получили отражение в творчестве и др. композиторов этой группы (увертюра «1000 лет» Балакирева, написанная под впечатлением статьи А. И. Герцена «Исполин просыпается»; «Песня тёмного леса» Бородина; сцена веча в опере «Псковитянка» Римского-Корсакова). Вместе с тем у них проявлялась тенденция к известной романтизации национального прошлого. В древних, исконных началах народной жизни и мировоззрения они стремились найти опору для утверждения позитивного нравственного и эстетического идеала.
Одним из важнейших источников творчества служила для композиторов «Могучей кучки» народная песня. Их внимание привлекала главным образом старинная традиционная крестьянская песня, в которой они усматривали выражение коренных основ национального музыкального мышления. Характерные для «кучкистов» принципы обработки народных песенных мелодий нашли отражение в сборнике Балакирева «40 русских народных песен» (составлен Балакиревым на основе собственных записей, сделанных во время поездки по Волге с поэтом Н. В. Щербиной в 1860). Много внимания уделял собиранию и обработке народных песен Римский-Корсаков. Народная песня получила разнообразное преломление в оперном и симфоническом творчестве композиторов «Могучей кучки». Они проявляли также интерес к фольклору других народов, особенно восточных. Вслед за Глинкой «кучкисты» широко разрабатывали в своих произведениях интонации и ритмы народов Востока и тем самым способствовали возникновению у этих народов собственных национальных композиторских школ.
В поисках правдивой интонационной выразительности «кучкисты» опирались на достижения Даргомыжского в области реалистической вокальной декламации. Особенно высоко оценивалась ими опера «Каменный гость», в которой наиболее полно и последовательно осуществлено стремление композитора к воплощению слова в музыке («Хочу, чтобы звук прямо выражал слово»). Они считали это произведение, наряду с операми Глинки, основой русской оперной классики.
Творческая деятельность «Могучей кучки» — важнейший исторический этап в развитии русской музыки. Опираясь на традиции Глинки и Даргомыжского, композиторы-«кучкисты» обогатили её новыми завоеваниями, особенно в оперном, симфоническом и камерном вокальном жанрах. Такие произведения, как «Борис Годунов» и «Хованщина» Мусоргского, «Князь Игорь» Бородина, «Снегурочка» и «Садко» Римского-Корсакова, принадлежат к вершинам русской оперной классики. Общие их черты — национальная характерность, реалистичность образов, широкий размах и важное драматургическое значение народно-массовых сцен. Стремление к живописной яркости, конкретности образов присуще и симфоническому творчеству композиторов «Могучей кучки», отсюда большая роль в нём программно-изобразительных и жанровых элементов. Бородин и Балакирев явились создателями руссокого национально-эпического симфонизма. Римский-Корсаков был непревзойдённым мастером оркестрового колорита, в его симфонических произведениях преобладает картинно-живописное начало. В камерном вокальном творчестве «кучкистов» тонкий психологизм и поэтическая одухотворённость сочетаются с острой жанровой характерностью, драматизмом и эпической широтой. Менее значительное место в их творчестве занимают камерные инструментальные жанры. В этой области произведения выдающейся художественной ценности были созданы только Бородиным, автором двух струнных квартетов и фортепианного квинтета. Уникальное место в фортепианной литературе по оригинальности замысла и колористическому своеобразию занимают «Исламей» Балакирева и «Картинки с выставки» Мусоргского.
В своей новаторской устремлённости «Могучая кучка» сближалась с передовыми представителями западно-европейского музыкального романтизма — Р. Шуманом, Г. Берлиозом, Ф. Листом. Высоко ценили композиторы-«кучкисты» творчество Л. Бетховена, которого они считали родоначальником всей новой музыки. Вместе с тем в их отношении к музыкальному наследию добетховенского периода, а также к ряду явлений современного им зарубежного исккусства (итальянская опера, Р. Вагнер и др.) проявились черты одностороннего негативизма и предвзятости. В пылу полемики и борьбы за утверждение своих идей ими высказывались иногда слишком категорические и недостаточно обоснованные отрицательные суждения.
В русской музыкальной жизни 60-х гг. «Могучей кучке» противостояло академическое направление, центрами которого были РМО и Петербургская консерватория во главе с А. Г. Рубинштейном. Этот антагонизм был до известной степени аналогичен борьбе веймарской школы и лейпцигской школы в немецкой музыке середины 19 в. Справедливо критикуя «консерваторов» за чрезмерный традиционализм и проявлявшееся ими порой непонимание национально-своеобразных путей развития русской музыки, деятели «Могучей кучки» недооценивали значения систематического профессионального музыкального образования. С течением времени острота противоречий между этими двумя группировками смягчалась, они сближались по ряду вопросов. Так, Римский-Корсаков в 1871 вошёл в состав профессоров Петербургской консерватории.
К середине 70-х гг. «Могучая кучка» как сплочённая группа перестала существовать. Отчасти это было вызвано тяжёлым душевным кризисом Балакирева и его отходом от активного участия в музыкальной жизни. Но главная причина распада «Могучей кучки» — во внутренних творческих расхождениях. Балакирев и Мусоргский неодобрительно отнеслись к педагогической деятельности Римского-Корсакова в Петербургской консерватории и рассматривали это как сдачу принципиальных позиций. С ещё большей остротой проявились назревшие в «Могучей кучке» расхождения в связи с поставленной в 1874 в Мариинском театре оперы «Борис Годунов», оценка которой членами кружка оказалась не единодушной. Бородин видел в распаде «Могучей кучки» проявление естественного процесса творческого самоопределения и нахождения своего индивидуального пути каждым из входивших в её состав композиторов. «...Так всегда бывает во всех отраслях человеческой деятельности, — писал он в 1876 певице Л. И. Кармалиной. — По мере развития деятельности индивидуальность начинает брать перевес над школою, над тем, что человек унаследовал от других». Одновременно он подчёркивал, что «общий склад музыкальный, общий пошиб, свойственный кружку, остались». «Кучкизм» как направление продолжал развиваться и далее. Эстетические принципы и творчество «Могучей кучки» оказали влияние на многих русских композиторов более молодого поколения. С «Могучей кучкой» преемственно связан Беляевский кружок, который, однако, не обладал присущим ей боевым новаторским запалом и не имел определённой идейно-художественной платформы.
Временно примыкали к ней А. С. Гуссаковский, H. H. Лодыженский, Н. В. Щербачёв, отошедшие впоследствии от композиторской деятельности. Источником образного наименования послужила статья В. В. Стасова «Славянский концерт г. Балакирева» (по поводу концерта под управлением Балакирева в честь славянских делегаций на Всероссийской этнографической выставке в 1867), которая заканчивалась пожеланием, чтобы славянские гости «навсегда сохранили воспоминания о том, сколько поэзии, чувства, таланта и умения есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов». Понятие «Новая русская музыкальная школа» было выдвинуто самими членами «Могучей кучки», считавшими себя последователями и продолжателями дела старших мастеров русской музыки - М. И. Глинки и А. С. Даргомыжского. Во Франции принято название «Пятёрка» или «Группа пяти» («Groupe des Cinq») по числу основных представителей «Могучей кучки».
«Могучая кучка» - одно из вольных содружеств, которые возникали в пору демократического подъёма 60-х гг. 19 в. в различных областях русской художественной культуры с целью взаимной поддержки и борьбы за прогрессивные общественные и эстетические идеалы (литературный кружок журнала «Современник», «Артель художников», «Товарищество передвижных художественных выставок»). Подобно «Артели художников» в изобразительном искусстве, противопоставившей себя официальному курсу Академии художеств, «Могучая кучка» решительно выступала против косной академической рутины, отрыва от жизни и пренебрежения современным требованиями, возглавив передовое национальное направление в русской музыке. «Могучая кучка» объединила наиболее талантливых композиторов молодого поколения, выдвинувшихся в конце 50 - начале 60-х гг., за исключением П. И. Чайковского, который не входил ни в какие группы. Руководящее положение в «Могучей кучке» принадлежало Балакиреву (отсюда - Балакиревский кружок). Тесно связан с ней был Стасов, сыгравший важную роль в выработке общих идейно-эстетических позиций «Могучей кучки», в формировании и пропаганде творчества отдельных её членов. С 1864 систематически выступал в печати Кюи, музыкально-критическая деятельность которого во многом отражала взгляды и тенденции, присущие всей «Могучей кучке». Её позиции находят отражение и в печатных выступлениях Бородина, Римского-Корсакова. Центром музыкально-просветительской деятельности «Могучей кучки» явилась (создана в 1862 по инициативе Балакирева и Г. Я. Ломакина), в концертах которой исполнялись произведения членов «Могучей кучки» и близких ей по направлению русских и зарубежных композиторов.
Основополагающими принципами для композиторов-«кучкистов» были народность и национальность. Тематика их творчества связана преимущественно с образами народной жизни, исторического прошлого России, народного эпоса и сказки, древними языческими верованиями и обрядами. Мусоргский, наиболее радикальный из членов «Могучей кучки» по своим художественным убеждениям, с огромной силой воплотил в музыке образы народа, многие его произведения отличаются открыто выраженной социально-критической направленностью. Народно-освободительные идеи 60-х гг. получили отражение в творчестве и др. композиторов этой группы (увертюра «1000 лет» Балакирева, написанная под впечатлением статьи А. И. Герцена «Исполин просыпается»; «Песня тёмного леса» Бородина; сцена веча в опере «Псковитянка» Римского-Корсакова). Вместе с тем у них проявлялась тенденция к известной романтизации национального прошлого. В древних, исконных началах народной жизни и мировоззрения они стремились найти опору для утверждения позитивного нравственного и эстетического идеала.
Одним из важнейших источников творчества служила для композиторов «Могучей кучки» народная песня. Их внимание привлекала главным образом старинная традиционная крестьянская песня, в которой они усматривали выражение коренных основ национального музыкального мышления. Характерные для «кучкистов» принципы обработки народных песенных мелодий нашли отражение в сборнике Балакирева «40 русских народных песен» (составлен Балакиревым на основе собственных записей, сделанных во время поездки по Волге с поэтом Н. В. Щербиной в 1860). Много внимания уделял собиранию и обработке народных песен Римский-Корсаков. Народная песня получила разнообразное преломление в оперном и симфоническом творчестве композиторов «Могучей кучки». Они проявляли также интерес к фольклору других народов, особенно восточных. Вслед за Глинкой «кучкисты» широко разрабатывали в своих произведениях интонации и ритмы народов Востока и тем самым способствовали возникновению у этих народов собственных национальных композиторских школ.
В поисках правдивой интонационной выразительности «кучкисты» опирались на достижения Даргомыжского в области реалистической вокальной декламации. Особенно высоко оценивалась ими опера «Каменный гость», в которой наиболее полно и последовательно осуществлено стремление композитора к воплощению слова в музыке («Хочу, чтобы звук прямо выражал слово»). Они считали это произведение, наряду с операми Глинки, основой русской оперной классики.
Творческая деятельность «Могучей кучки» - важнейший исторический этап в развитии русской музыки. Опираясь на традиции Глинки и Даргомыжского, композиторы-«кучкисты» обогатили её новыми завоеваниями, особенно в оперном, симфоническом и камерном вокальном жанрах. Такие произведения, как «Борис Годунов» и «Хованщина» Мусоргского, «Князь Игорь» Бородина, «Снегурочка» и «Садко» Римского-Корсакова, принадлежат к вершинам русской оперной классики. Общие их черты - национальная характерность, реалистичность образов, широкий размах и важное драматургическое значение народно-массовых сцен. Стремление к живописной яркости, конкретности образов присуще и симфоническому творчеству композиторов «Могучей кучки», отсюда большая роль в нём программно-изобразительных и жанровых элементов. Бородин и Балакирев явились создателями руссокого национально-эпического симфонизма. Римский-Корсаков был непревзойдённым мастером оркестрового колорита, в его симфонических произведениях преобладает картинно-живописное начало. В камерном вокальном творчестве «кучкистов» тонкий психологизм и поэтическая одухотворённость сочетаются с острой жанровой характерностью, драматизмом и эпической широтой. Менее значительное место в их творчестве занимают камерные инструментальные жанры. В этой области произведения выдающейся художественной ценности были созданы только Бородиным, автором двух струнных квартетов и фортепианного квинтета. Уникальное место в фортепианной литературе по оригинальности замысла и колористическому своеобразию занимают «Исламей» Балакирева и «Картинки с выставки» Мусоргского.
В своей новаторской устремлённости «Могучая кучка» сближалась с передовыми представителями западно-европейского музыкального романтизма - Р. Шуманом, Г. Берлиозом, Ф. Листом. Высоко ценили композиторы-«кучкисты» творчество Л. Бетховена, которого они считали родоначальником всей новой музыки. Вместе с тем в их отношении к музыкальному наследию добетховенского периода, а также к ряду явлений современного им зарубежного исккусства (итальянская опера, Р. Вагнер и др.) проявились черты одностороннего негативизма и предвзятости. В пылу полемики и борьбы за утверждение своих идей ими высказывались иногда слишком категорические и недостаточно обоснованные отрицательные суждения.
В русской музыкальной жизни 60-х гг. «Могучей кучке» противостояло академическое направление, центрами которого были РМО и Петербургская консерватория во главе с А. Г. Рубинштейном. Этот антагонизм был до известной степени аналогичен борьбе веймарской школы и лейпцигской школы в немецкой музыке середины 19 в. Справедливо критикуя «консерваторов» за чрезмерный традиционализм и проявлявшееся ими порой непонимание национально-своеобразных путей развития русской музыки, деятели «Могучей кучки» недооценивали значения систематического профессионального музыкального образования. С течением времени острота противоречий между этими двумя группировками смягчалась, они сближались по ряду вопросов. Так, Римский-Корсаков в 1871 вошёл в состав профессоров Петербургской консерватории.
К середине 70-х гг. «Могучая кучка» как сплочённая группа перестала существовать. Отчасти это было вызвано тяжёлым душевным кризисом Балакирева и его отходом от активного участия в музыкальной жизни. Но главная причина распада «Могучей кучки» - во внутренних творческих расхождениях. Балакирев и Мусоргский неодобрительно отнеслись к педагогической деятельности Римского-Корсакова в Петербургской консерватории и рассматривали это как сдачу принципиальных позиций. С ещё большей остротой проявились назревшие в «Могучей кучке» расхождения в связи с поставленной в 1874 в Мариинском театре оперы «Борис Годунов», оценка которой членами кружка оказалась не единодушной. Бородин видел в распаде «Могучей кучки» проявление естественного процесса творческого самоопределения и нахождения своего индивидуального пути каждым из входивших в её состав композиторов. «...Так всегда бывает во всех отраслях человеческой деятельности, - писал он в 1876 певице Л. И. Кармалиной. - По мере развития деятельности индивидуальность начинает брать перевес над школою, над тем, что человек унаследовал от других». Одновременно он подчёркивал, что «общий склад музыкальный, общий пошиб, свойственный кружку, остались». «Кучкизм» как направление продолжал развиваться и далее. Эстетические принципы и творчество «Могучей кучки» оказали влияние на многих русских композиторов более молодого поколения. С «Могучей кучкой» преемственно связан , который, однако, не обладал присущим ей боевым новаторским запалом и не имел определённой идейно-художественной платформы.
Литература: Стасов В. В., М. П. Мусоргский, «Вестник Европы». 1881, кн. 5-6; его же, Наша музыка за последние 25 лет, там же, 1883, кн. 10, под назв.: Двадцать пять лет русского искусства. Наша музыка, Собр. соч., т. 1, СПБ, 1894; его же, Искусство XIX века, Собр. соч., т. 4, СПБ, 1906; см. также: Избр. соч., т. 3, М., 1952; А. П. Бородин. Его жизнь, переписка и музыкальные статьи, СПБ, 1889; Римский-Корсаков H. A., Летопись моей музыкальной жизни, СПБ, 1909, М., 1955; Игорь Глебов (Асафьев Б. В.), Русская музыка от начала XIX столетия, М.-Л., 1930, 1968; его же, Избр. труды, т. 3, М., 1954; История русской музыки, под ред. М. С. Пекелиса, т. 2, М.-Л., 1940; Келдыш Ю., История русской музыки, ч. 2, М.-Л., 1947; его же, Композиторы второй половины XIX века, М., 1945, 1960 (под загл.: Русские композиторы...); Кюи Ц. A., Избр. статьи, Л., 1952; Композиторы «Могучей кучки» об опере, М., 1955; Композиторы «Могучей кучки» о народной музыке, М., 1957; Кремлев Ю., Русская мысль о музыке, т. 2, Л., 1958; Гордеева Е. М., Могучая кучка, М., 1960, 1966.
Так случилось, что нечаянно оброненные слова стали обозначать большое и сложное явление в истории музыки нашей страны. «Могучая кучка»- это Римский-Корсаков, Бородин, Мусоргский, Балакирев, Кюи. Но почему пять композиторов сразу называют этими словами? Кто придумал эти слова?
Как-то замечательный русский искусствовед Владимир Стасов, автор множества статей о музыке и музыкантах, после одного концерта написал: «...сколько поэзии, чувства, таланта и умения есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов». Так он выразился сразу о пяти композиторах. Действительно, всё это - люди могучего таланта, великих дарований, и не только в музыке; почти каждый из них прославил себя и другими делами.
Все они были друзьями: часто встречались, играли друг другу свои сочинения, обсуждали их. В истории искусства немного примеров такой прекрасной и высокой творческой дружбы.
По-разному сложилась жизнь композиторов «Могучей кучки». Но каждый из них боролся в своём творчестве за высокие цели.
Самую короткую жизнь прожил Модест Петрович Мусоргский: он умер 42 лет, не успев выполнить и малой части своих замыслов. Но его романсы и песни, оперы «Борис Годунов», «Хованщина» - «народные музыкальные драмы», как он их называл, будут радовать ещё не одно поколение слушателей.
Автор знаменитой оперы «Князь Игорь» и « » Александр Порфирьевич Бородин был одновременно и выдающимся учёным-хи-миком. Он написал немного музыкальных произведений, но каждое из них - словно драгоценная жемчужина среди сокровищ нашей музыки.
Творчество Николая Андреевича наиболее обширно: 15 опер, 3 симфонии, множество романсов, симфонических произведений, музыкальных сочинений для разных инструментов.
Симфонические произведения Милия Алексеевича Балакирева, его фортепианная фантазия «Исламей», оперы Цезаря Антоновича Кюи полны красок, разнообразны и ярки, хотя, быть может, уступают музыке первых трёх композиторов по значительности.
Та музыка, которую создавали композиторы «Могучей кучки», была совершенно новым, большим и значительным делом. В сочинениях они отразили мысли и чувства своих современников. Вот почему, живя интересами народа, композиторы эти силой своей музыки бунтовали против насилия и угнетения. Таким «бунтом» воспринимаются оперы «Борис Годунов» Мусоргского и «Золотой петушок» Римского-Корсакова.
В свои оперы, симфонии и другие произведения они смело вводили мелодии народных песен и танцев. И героев своих искали в народных сказках и преданиях, в истории родной страны. Жизнь народа- вот что было всего дороже этим композиторам.
Не случайно композиторов «Могучей кучки» сравнивают с художниками- . Их объединяет нерушимая связь с народом и стремление служить Родине.
Материал из Википедии - свободной энциклопедии
«Могучая кучка» (а также Бала́киревский кружок , Новая русская музыкальная школа или, иногда, «Русская пятёрка» ) - творческое содружество русских композиторов , сложившееся в Санкт-Петербурге в конце 1850-х и начале 1860-х годов. В него вошли: Милий Алексеевич Балакирев (1837-1910), Модест Петрович Мусоргский (1839-1881), Александр Порфирьевич Бородин (1833-1887), Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908) и Цезарь Антонович Кюи (1835-1918). Идейным вдохновителем и основным немузыкальным консультантом кружка был художественный критик, литератор и архивист Владимир Васильевич Стасов (1824-1906).
Группа «Могучая кучка» возникла на фоне революционного брожения, охватившего к тому времени умы русской интеллигенции. Бунты и восстания крестьян стали главными социальными событиями того времени, возвратившими деятелей искусства к народной теме. В реализации национально-эстетических принципов, провозглашённых идеологами содружества Стасовым и Балакиревым, наиболее последовательным был М. П. Мусоргский, меньше других - Ц. А. Кюи. Участники «Могучей кучки» систематически записывали и изучали образцы русского музыкального фольклора и русского церковного пения. Результаты своих изысканий в том или ином виде они воплощали в сочинениях камерного и крупного жанра, особенно в операх, среди которых «Царская невеста », «Снегурочка », «Хованщина », «Борис Годунов », «Князь Игорь» . Интенсивные поиски национальной самобытности в «Могучей кучке» не ограничивались аранжировками фольклора и Богослужебного пения, но распространились также и на драматургию, жанр (и форму), вплоть до отдельных категорий музыкального языка (гармония, ритмика, фактура и т. д.).
Первоначально в составе кружка были Балакирев и Стасов, увлечённые чтением Белинского , Добролюбова , Герцена , Чернышевского . Своими идеями они вдохновили и молодого композитора Кюи, а позже к ним присоединился Мусоргский, оставивший чин офицера в Преображенском полку ради занятий музыкой. В 1862 году к балакиревскому кружку примкнули Н. А. Римский-Корсаков и А. П. Бородин. Если Римский-Корсаков был совсем молодым по возрасту членом кружка, взгляды и музыкальный талант которого только начинали определяться, то Бородин к этому времени был уже зрелым человеком, выдающимся учёным-химиком, дружески связанным с такими гигантами русской науки, как Менделеев , Сеченов , Ковалевский , Боткин .
Собрания балакиревского кружка протекали всегда в очень оживлённой творческой атмосфере. Члены этого кружка часто встречались с писателями А. В. Григоровичем, А. Ф. Писемским , И. С. Тургеневым , художником И. Е. Репиным , скульптором М. А. Антокольским . Тесные, хотя и далеко не всегда гладкие связи были и с Петром Ильичом Чайковским .
В 70-х годах «Могучая кучка» как сплочённая группа перестала существовать. Деятельность «Могучей кучки» стала эпохой в развитии русского и мирового музыкального искусства.
С прекращением регулярных встреч пяти русских композиторов приращение, развитие и живая история «Могучей кучки» отнюдь не завершились. Центр кучкистской деятельности и идеологии в основном благодаря педагогической деятельности Римского-Корсакова переместился в классы Петербургской консерватории , а также начиная с середины -х годов и в «беляевский кружок », где Римский-Корсаков в течение почти 20 лет был признанным главой и лидером , а затем с началом XX века разделил своё лидерство в составе «триумвирата» с А. К. Лядовым , А. К. Глазуновым и чуть позднее (с мая 1907 года) Н. В. Арцыбушевым . Таким образом, за вычетом балакиревского радикализма «беляевский кружок» стал естественным продолжением «Могучей кучки».
Сам Римский-Корсаков вспоминал об этом вполне определённым образом:
«Можно ли считать беляевский кружок продолжением балакиревского, была ли между тем и другим известная доля сходства, и в чём состояло различие, помимо изменения с течением времени его личного состава? Сходство, указывавшее на то, что кружок беляевский есть продолжение балакиревского, кроме соединительных звеньев в лице моём и Лядова, заключалось в общей и тому и другому передовитости, прогрессивности; но кружок Балакирева соответствовал периоду бури и натиска в развитии русской музыки, а кружок Беляева - периоду спокойного шествия вперёд; балакиревский был революционный , беляевский же - прогрессивный …»
- (Н.А.Римский-Корсаков, «Летопись моей музыкальной жизни»)
Среди членов беляевского кружка Римский-Корсаков называет в качестве «связующих звеньев» отдельно самого себя (как нового главу кружка вместо Балакирева), Бородина (в то недолгое время, которое осталось до его смерти) и Лядова. Со второй половины 80-х годов в составе беляевской «Могучей кучки» появляются такие разные по дарованию и специальности музыканты, как Глазунов , братья Ф. М. Блуменфельд и С. М. Блуменфельд, дирижёр О. И. Дютш и пианист Н. С. Лавров . Чуть позже, по мере окончания консерватории в число беляевцев вошли такие композиторы, как Н. А. Соколов , К. А. Антипов , Я. Витоль и так далее, включая большое число более поздних выпускников Римского-Корсакова по классу композиции. Кроме того, и «маститый Стасов» сохранял всегда хорошие и близкие отношения с беляевским кружком, хотя влияние его было «уже далеко не тем», что в кружке Балакирева. Новый состав кружка (и его более умеренный глава) определили и новое лицо «послекучкистов»: гораздо более ориентированное на академизм и открытое множеству влияний, прежде в рамках «Могучей кучки» считавшихся недопустимыми. Беляевцы испытывали на себе массу «чуждых» воздействий и имели широкие симпатии, начиная от Вагнера и Чайковского, и кончая «даже» Равелем и Дебюсси . Кроме того, следует особо отметить, что, будучи преемником «Могучей кучки» и в целом продолжая её направление, беляевский кружок не представлял собой единого эстетического целого, руководствующегося единой идеологией или программой.
В свою очередь, и Балакирев не потерял активность и продолжил распространять своё влияние, выпуская всё новых учеников в бытность свою на посту главы придворной Капеллы . Наиболее известным из его учеников позднего времени (впоследствии закончившим также и класс Римского-Корсакова) считается композитор В. А. Золотарёв .
Дело не ограничивалось только прямым преподаванием и классами свободного сочинения. Всё более частое исполнение на сценах императорских театров новых опер Римского-Корсакова и его оркестровых сочинений, постановка бородинского «Князя Игоря» и второй редакции «Бориса Годунова» Мусоргского, множество критических статей и растущее личное влияние Стасова - всё это постепенно умножало ряды национально ориентированной русской музыкальной школы. Многие ученики Римского-Корсакова и Балакирева по стилю своих сочинений вполне вписывались в продолжение генеральной линии «Могучей кучки» и могли быть названы если не её запоздалыми членами, то во всяком случае - верными последователями. А иногда случалось даже так, что последователи оказывались значительно «вернее» (и ортодоксальнее) своих учителей. Невзирая на некоторую анахроничность и старомодность, даже во времена Скрябина , Стравинского и Прокофьева , вплоть до середины XX века эстетика и пристрастия многих из этих композиторов оставались вполне «кучкистскими» и чаще всего - не подверженными принципиальным стилевым изменениям. Однако со временем всё чаще в своём творчестве последователи и ученики Римского-Корсакова обнаруживали некий «сплав» московской и петербургской школы, в той или иной мере соединяя влияние Чайковского с «кучкистскими» принципами. Пожалуй, наиболее крайней и далёкой фигурой в этом ряду является А. С. Аренский , который, до конца своих дней сохраняя подчёркнутую личную (ученическую) верность своему учителю (Римскому-Корсакову), тем не менее, в своём творчестве был гораздо ближе к традициям Чайковского. Кроме того, он вёл крайне разгульный и даже «аморальный» образ жизни. Именно этим прежде всего объясняется весьма критическое и несочувственное отношение к нему в беляевском кружке. Ничуть не менее показателен и пример Александра Гречанинова , тоже верного ученика Римского-Корсакова, большую часть времени жившего в Москве. Однако о его творчестве учитель отзывается гораздо более сочувственно и в качестве похвалы называет его «отчасти петербужцем». После 1890 года и участившихся визитов Чайковского в Петербург , в беляевском кружке нарастает эклектичность вкусов и всё более прохладное отношение к ортодоксальным традициям «Могучей кучки». Постепенно Глазунов, Лядов и Римский-Корсаков также и лично сближаются с Чайковским, тем самым положив конец прежде непримиримой (балакиревской) традиции «вражды школ». К началу XX века большинство новой русской музыки всё в большей степени обнаруживает синтез двух направлений и школ: в основном через академизм и размывание «чистых традиций». Немалую роль в этом процессе сыграл и лично сам Римский-Корсаков. По мнению Л. Л. Сабанеева , музыкальные вкусы Римского-Корсакова, его «открытость к влияниям» были значительно гибче и шире, чем у всех его композиторов-современников.
Многие русские композиторы конца XIX - первой половины XX веков рассматриваются историками музыки как непосредственные продолжатели традиций Могучей кучки; среди них
Отдельного упоминания заслуживает и тот факт, что знаменитая французская «Шестёрка », собранная под предводительством Эрика Сати (как бы «в роли Милия Балакирева») и Жана Кокто (как бы «в роли Владимира Стасова») - явилась прямым откликом на «русскую пятёрку» - как называли в Париже композиторов «Могучей кучки». Статья известного критика Анри Колле , оповестившая мир о рождении новой группы композиторов, так и называлась: «Русская пятёрка, французская шестёрка и господин Сати» .
Напишите отзыв о статье "Могучая кучка"
Примечания
Комментарии
Источники
- Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыша. - М .: «Советская Энциклопедия», 1990. - С. 348. - 672 с. - 150 000 экз. - ISBN 5-85270-033-9 .
- Римский-Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. - девятое. - М .: Музыка, 1982. - С. 207-210. - 440 с.
- Штейнпресс Б.С., Ямпольский И.М. Энциклопедический музыкальный словарь. - М .: «Советская Энциклопедия», 1966. - С. 48. - 632 с. - 100 000 экз.
- Римский-Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. - девятое. - М .: Музыка, 1982. - С. 293. - 440 с.
- Римский-Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. - девятое. - М .: Музыка, 1982. - С. 269. - 440 с.
- Римский-Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. - девятое. - М .: Музыка, 1982. - С. 223-224. - 440 с.
- Сабанеев Л.Л. Воспоминания о России. - М .: Классика-XXI, 2005. - С. 59. - 268 с. - 1500 экз. - ISBN 5 89817-145-2 .
8. Панус О.Ю. "Золотая лира, золотые гусли" - М."Спутник+", 2015. - С.599 - ISBN 978-5-9973-3366-9
Отрывок, характеризующий Могучая кучка
– Ничего, гранату… – отвечал он.«Ну ка, наша Матвевна», говорил он про себя. Матвевной представлялась в его воображении большая крайняя, старинного литья пушка. Муравьями представлялись ему французы около своих орудий. Красавец и пьяница первый номер второго орудия в его мире был дядя; Тушин чаще других смотрел на него и радовался на каждое его движение. Звук то замиравшей, то опять усиливавшейся ружейной перестрелки под горою представлялся ему чьим то дыханием. Он прислушивался к затиханью и разгоранью этих звуков.
– Ишь, задышала опять, задышала, – говорил он про себя.
Сам он представлялся себе огромного роста, мощным мужчиной, который обеими руками швыряет французам ядра.
– Ну, Матвевна, матушка, не выдавай! – говорил он, отходя от орудия, как над его головой раздался чуждый, незнакомый голос:
– Капитан Тушин! Капитан!
Тушин испуганно оглянулся. Это был тот штаб офицер, который выгнал его из Грунта. Он запыхавшимся голосом кричал ему:
– Что вы, с ума сошли. Вам два раза приказано отступать, а вы…
«Ну, за что они меня?…» думал про себя Тушин, со страхом глядя на начальника.
– Я… ничего… – проговорил он, приставляя два пальца к козырьку. – Я…
Но полковник не договорил всего, что хотел. Близко пролетевшее ядро заставило его, нырнув, согнуться на лошади. Он замолк и только что хотел сказать еще что то, как еще ядро остановило его. Он поворотил лошадь и поскакал прочь.
– Отступать! Все отступать! – прокричал он издалека. Солдаты засмеялись. Через минуту приехал адъютант с тем же приказанием.
Это был князь Андрей. Первое, что он увидел, выезжая на то пространство, которое занимали пушки Тушина, была отпряженная лошадь с перебитою ногой, которая ржала около запряженных лошадей. Из ноги ее, как из ключа, лилась кровь. Между передками лежало несколько убитых. Одно ядро за другим пролетало над ним, в то время как он подъезжал, и он почувствовал, как нервическая дрожь пробежала по его спине. Но одна мысль о том, что он боится, снова подняла его. «Я не могу бояться», подумал он и медленно слез с лошади между орудиями. Он передал приказание и не уехал с батареи. Он решил, что при себе снимет орудия с позиции и отведет их. Вместе с Тушиным, шагая через тела и под страшным огнем французов, он занялся уборкой орудий.
– А то приезжало сейчас начальство, так скорее драло, – сказал фейерверкер князю Андрею, – не так, как ваше благородие.
Князь Андрей ничего не говорил с Тушиным. Они оба были и так заняты, что, казалось, и не видали друг друга. Когда, надев уцелевшие из четырех два орудия на передки, они двинулись под гору (одна разбитая пушка и единорог были оставлены), князь Андрей подъехал к Тушину.
– Ну, до свидания, – сказал князь Андрей, протягивая руку Тушину.
– До свидания, голубчик, – сказал Тушин, – милая душа! прощайте, голубчик, – сказал Тушин со слезами, которые неизвестно почему вдруг выступили ему на глаза.
Ветер стих, черные тучи низко нависли над местом сражения, сливаясь на горизонте с пороховым дымом. Становилось темно, и тем яснее обозначалось в двух местах зарево пожаров. Канонада стала слабее, но трескотня ружей сзади и справа слышалась еще чаще и ближе. Как только Тушин с своими орудиями, объезжая и наезжая на раненых, вышел из под огня и спустился в овраг, его встретило начальство и адъютанты, в числе которых были и штаб офицер и Жерков, два раза посланный и ни разу не доехавший до батареи Тушина. Все они, перебивая один другого, отдавали и передавали приказания, как и куда итти, и делали ему упреки и замечания. Тушин ничем не распоряжался и молча, боясь говорить, потому что при каждом слове он готов был, сам не зная отчего, заплакать, ехал сзади на своей артиллерийской кляче. Хотя раненых велено было бросать, много из них тащилось за войсками и просилось на орудия. Тот самый молодцоватый пехотный офицер, который перед сражением выскочил из шалаша Тушина, был, с пулей в животе, положен на лафет Матвевны. Под горой бледный гусарский юнкер, одною рукой поддерживая другую, подошел к Тушину и попросился сесть.
– Капитан, ради Бога, я контужен в руку, – сказал он робко. – Ради Бога, я не могу итти. Ради Бога!
Видно было, что юнкер этот уже не раз просился где нибудь сесть и везде получал отказы. Он просил нерешительным и жалким голосом.
– Прикажите посадить, ради Бога.
– Посадите, посадите, – сказал Тушин. – Подложи шинель, ты, дядя, – обратился он к своему любимому солдату. – А где офицер раненый?
– Сложили, кончился, – ответил кто то.
– Посадите. Садитесь, милый, садитесь. Подстели шинель, Антонов.
Юнкер был Ростов. Он держал одною рукой другую, был бледен, и нижняя челюсть тряслась от лихорадочной дрожи. Его посадили на Матвевну, на то самое орудие, с которого сложили мертвого офицера. На подложенной шинели была кровь, в которой запачкались рейтузы и руки Ростова.
– Что, вы ранены, голубчик? – сказал Тушин, подходя к орудию, на котором сидел Ростов.
– Нет, контужен.
– Отчего же кровь то на станине? – спросил Тушин.
– Это офицер, ваше благородие, окровянил, – отвечал солдат артиллерист, обтирая кровь рукавом шинели и как будто извиняясь за нечистоту, в которой находилось орудие.
Насилу, с помощью пехоты, вывезли орудия в гору, и достигши деревни Гунтерсдорф, остановились. Стало уже так темно, что в десяти шагах нельзя было различить мундиров солдат, и перестрелка стала стихать. Вдруг близко с правой стороны послышались опять крики и пальба. От выстрелов уже блестело в темноте. Это была последняя атака французов, на которую отвечали солдаты, засевшие в дома деревни. Опять всё бросилось из деревни, но орудия Тушина не могли двинуться, и артиллеристы, Тушин и юнкер, молча переглядывались, ожидая своей участи. Перестрелка стала стихать, и из боковой улицы высыпали оживленные говором солдаты.
– Цел, Петров? – спрашивал один.
– Задали, брат, жару. Теперь не сунутся, – говорил другой.
– Ничего не видать. Как они в своих то зажарили! Не видать; темь, братцы. Нет ли напиться?
Французы последний раз были отбиты. И опять, в совершенном мраке, орудия Тушина, как рамой окруженные гудевшею пехотой, двинулись куда то вперед.
В темноте как будто текла невидимая, мрачная река, всё в одном направлении, гудя шопотом, говором и звуками копыт и колес. В общем гуле из за всех других звуков яснее всех были стоны и голоса раненых во мраке ночи. Их стоны, казалось, наполняли собой весь этот мрак, окружавший войска. Их стоны и мрак этой ночи – это было одно и то же. Через несколько времени в движущейся толпе произошло волнение. Кто то проехал со свитой на белой лошади и что то сказал, проезжая. Что сказал? Куда теперь? Стоять, что ль? Благодарил, что ли? – послышались жадные расспросы со всех сторон, и вся движущаяся масса стала напирать сама на себя (видно, передние остановились), и пронесся слух, что велено остановиться. Все остановились, как шли, на середине грязной дороги.
Засветились огни, и слышнее стал говор. Капитан Тушин, распорядившись по роте, послал одного из солдат отыскивать перевязочный пункт или лекаря для юнкера и сел у огня, разложенного на дороге солдатами. Ростов перетащился тоже к огню. Лихорадочная дрожь от боли, холода и сырости трясла всё его тело. Сон непреодолимо клонил его, но он не мог заснуть от мучительной боли в нывшей и не находившей положения руке. Он то закрывал глаза, то взглядывал на огонь, казавшийся ему горячо красным, то на сутуловатую слабую фигуру Тушина, по турецки сидевшего подле него. Большие добрые и умные глаза Тушина с сочувствием и состраданием устремлялись на него. Он видел, что Тушин всею душой хотел и ничем не мог помочь ему.
Со всех сторон слышны были шаги и говор проходивших, проезжавших и кругом размещавшейся пехоты. Звуки голосов, шагов и переставляемых в грязи лошадиных копыт, ближний и дальний треск дров сливались в один колеблющийся гул.
Теперь уже не текла, как прежде, во мраке невидимая река, а будто после бури укладывалось и трепетало мрачное море. Ростов бессмысленно смотрел и слушал, что происходило перед ним и вокруг него. Пехотный солдат подошел к костру, присел на корточки, всунул руки в огонь и отвернул лицо.
– Ничего, ваше благородие? – сказал он, вопросительно обращаясь к Тушину. – Вот отбился от роты, ваше благородие; сам не знаю, где. Беда!
Вместе с солдатом подошел к костру пехотный офицер с подвязанной щекой и, обращаясь к Тушину, просил приказать подвинуть крошечку орудия, чтобы провезти повозку. За ротным командиром набежали на костер два солдата. Они отчаянно ругались и дрались, выдергивая друг у друга какой то сапог.
– Как же, ты поднял! Ишь, ловок, – кричал один хриплым голосом.
Потом подошел худой, бледный солдат с шеей, обвязанной окровавленною подверткой, и сердитым голосом требовал воды у артиллеристов.
– Что ж, умирать, что ли, как собаке? – говорил он.
Тушин велел дать ему воды. Потом подбежал веселый солдат, прося огоньку в пехоту.
– Огоньку горяченького в пехоту! Счастливо оставаться, землячки, благодарим за огонек, мы назад с процентой отдадим, – говорил он, унося куда то в темноту краснеющуюся головешку.
За этим солдатом четыре солдата, неся что то тяжелое на шинели, прошли мимо костра. Один из них споткнулся.
– Ишь, черти, на дороге дрова положили, – проворчал он.
– Кончился, что ж его носить? – сказал один из них.
– Ну, вас!
И они скрылись во мраке с своею ношей.
– Что? болит? – спросил Тушин шопотом у Ростова.
– Болит.
– Ваше благородие, к генералу. Здесь в избе стоят, – сказал фейерверкер, подходя к Тушину.
– Сейчас, голубчик.
Тушин встал и, застегивая шинель и оправляясь, отошел от костра…
Недалеко от костра артиллеристов, в приготовленной для него избе, сидел князь Багратион за обедом, разговаривая с некоторыми начальниками частей, собравшимися у него. Тут был старичок с полузакрытыми глазами, жадно обгладывавший баранью кость, и двадцатидвухлетний безупречный генерал, раскрасневшийся от рюмки водки и обеда, и штаб офицер с именным перстнем, и Жерков, беспокойно оглядывавший всех, и князь Андрей, бледный, с поджатыми губами и лихорадочно блестящими глазами.
В избе стояло прислоненное в углу взятое французское знамя, и аудитор с наивным лицом щупал ткань знамени и, недоумевая, покачивал головой, может быть оттого, что его и в самом деле интересовал вид знамени, а может быть, и оттого, что ему тяжело было голодному смотреть на обед, за которым ему не достало прибора. В соседней избе находился взятый в плен драгунами французский полковник. Около него толпились, рассматривая его, наши офицеры. Князь Багратион благодарил отдельных начальников и расспрашивал о подробностях дела и о потерях. Полковой командир, представлявшийся под Браунау, докладывал князю, что, как только началось дело, он отступил из леса, собрал дроворубов и, пропустив их мимо себя, с двумя баталионами ударил в штыки и опрокинул французов.
– Как я увидал, ваше сиятельство, что первый батальон расстроен, я стал на дороге и думаю: «пропущу этих и встречу батальным огнем»; так и сделал.
Полковому командиру так хотелось сделать это, так он жалел, что не успел этого сделать, что ему казалось, что всё это точно было. Даже, может быть, и в самом деле было? Разве можно было разобрать в этой путанице, что было и чего не было?
– Причем должен заметить, ваше сиятельство, – продолжал он, вспоминая о разговоре Долохова с Кутузовым и о последнем свидании своем с разжалованным, – что рядовой, разжалованный Долохов, на моих глазах взял в плен французского офицера и особенно отличился.
– Здесь то я видел, ваше сиятельство, атаку павлоградцев, – беспокойно оглядываясь, вмешался Жерков, который вовсе не видал в этот день гусар, а только слышал о них от пехотного офицера. – Смяли два каре, ваше сиятельство.
На слова Жеркова некоторые улыбнулись, как и всегда ожидая от него шутки; но, заметив, что то, что он говорил, клонилось тоже к славе нашего оружия и нынешнего дня, приняли серьезное выражение, хотя многие очень хорошо знали, что то, что говорил Жерков, была ложь, ни на чем не основанная. Князь Багратион обратился к старичку полковнику.
– Благодарю всех, господа, все части действовали геройски: пехота, кавалерия и артиллерия. Каким образом в центре оставлены два орудия? – спросил он, ища кого то глазами. (Князь Багратион не спрашивал про орудия левого фланга; он знал уже, что там в самом начале дела были брошены все пушки.) – Я вас, кажется, просил, – обратился он к дежурному штаб офицеру.
– Одно было подбито, – отвечал дежурный штаб офицер, – а другое, я не могу понять; я сам там всё время был и распоряжался и только что отъехал… Жарко было, правда, – прибавил он скромно.
Кто то сказал, что капитан Тушин стоит здесь у самой деревни, и что за ним уже послано.
– Да вот вы были, – сказал князь Багратион, обращаясь к князю Андрею.
– Как же, мы вместе немного не съехались, – сказал дежурный штаб офицер, приятно улыбаясь Болконскому.
– Я не имел удовольствия вас видеть, – холодно и отрывисто сказал князь Андрей.
Все молчали. На пороге показался Тушин, робко пробиравшийся из за спин генералов. Обходя генералов в тесной избе, сконфуженный, как и всегда, при виде начальства, Тушин не рассмотрел древка знамени и спотыкнулся на него. Несколько голосов засмеялось.
– Каким образом орудие оставлено? – спросил Багратион, нахмурившись не столько на капитана, сколько на смеявшихся, в числе которых громче всех слышался голос Жеркова.
Тушину теперь только, при виде грозного начальства, во всем ужасе представилась его вина и позор в том, что он, оставшись жив, потерял два орудия. Он так был взволнован, что до сей минуты не успел подумать об этом. Смех офицеров еще больше сбил его с толку. Он стоял перед Багратионом с дрожащею нижнею челюстью и едва проговорил:
– Не знаю… ваше сиятельство… людей не было, ваше сиятельство.
– Вы бы могли из прикрытия взять!
Что прикрытия не было, этого не сказал Тушин, хотя это была сущая правда. Он боялся подвести этим другого начальника и молча, остановившимися глазами, смотрел прямо в лицо Багратиону, как смотрит сбившийся ученик в глаза экзаменатору.
"Могучая кучка"

Илл. к главе "Могучая кучка"
Музыка все более властно входила в жизнь Мусоргского. Каждую свободную минуту он проводил за фортепиано. С братом, товарищами или матерью часто посещал концерты, оперные и балетные спектакли.
Недалеко от Никольского собора, на огромной площади (теперь Театральная) стояли один против другого два театра - Большой и Театр-цирк. В Большом царили итальянская опера и балет. Спектакли здесь ставились с невероятной роскошью. Итальянская труппа пользовалась покровительством царского двора и вниманием дирекции императорских театров. В ином положении была русская опера, ютившаяся в Театре-цирке, где наряду с оперными ставились драматические спектакли, а также устраивались цирковые представления. Зал здесь имел плохую акустику, декорации и костюмы были старые. Вельможные меценаты и театральная дирекция не признавали национального искусства.
Однако демократическая публика, посещавшая Театр-цирк, с большой симпатией относилась к русской оперной труппе. Из русских опер наибольшей любовью пользовалась "Аскольдова могила" Верстовского. Гениальные оперы Глинки почти не исполнялись. "Жизнь за царя" (так тогда называлась опера "Иван Сусанин") ставилась только в табельные дни, т. е. в царские праздники, а опера "Руслан и Людмила" вообще не была включена в репертуар.
В 1859 году Театр-цирк сгорел, и на его месте построили Мариинский театр (теперь Академический театр оперы и балета имени С. М. Кирова).
Блестящие преображенские офицеры редко удостаивали своим посещением Театр-цирк. Их больше привлекала итальянская опера. Модест был в восторге от прославленных певиц Бозио и Лотти, певцов - Кальцолари, Дебассини, Марини, Тамберлика. Он не пропускал опер Верди, наиболее популярных тогда, вместе со всеми восторгался "Лючией" Доницетти, "Карлом Смелым" (Так царская цензура переименовала оперу "Вильгельм Телль". ), "Севильским цирюльником", "Сорокой-воровкой" Россини, рукоплескал Лагруа в "Норме" Беллини, Бозио в "Северной звезде" Мейербера.
По возвращении из театра Модест садился за рояль и часами импровизировал на мотивы особенно полюбившихся ему арий.
Со временем Мусоргский стал все чаще бывать в Мариинском театре. Многие иностранные оперы из репертуара Большого театра ставились также русской труппой, и Модест мог сравнивать отличное пение и проникновенную игру О. А. Петрова, Д. М. Леоновой, А. А. Латышевой, П. П. Булахова с бельканто итальянских примадонн и премьеров.

Наряду с оперой Мусоргского привлекали и драматические спектакли. Он посещал Александрийский театр, где исполнялись драмы и водевили, а иногда давала представление русская оперная труппа.
Из концертов в ту пору особенной известностью пользовались университетские. Участниками их были музыканты-любители - студенты и преподаватели университета. Во главе оркестра стоял известный петербургский дирижер Карл Богданович Шуберт, а солистами выступали популярные пианисты Антон Рубинштейн и Милий Балакирев.
Музыкальная жизнь Петербурга не замирала и в летние месяцы. Летом устраивались концерты в знаменитом заведении искусственных минеральных вод в Новой Деревне. Здесь исполнялась серьезная музыка, а иногда выступали цыганские и тирольские хоры. Публика прибывала в Новую Деревню в "заведение Излера", названное по имени владельца, на пароходах от пристани у Летнего сада.
Пользовались славой и концерты в "Вилле Боргезе". Так назывался обширный сад в конце Каменноостровского проспекта (ныне сад имени Ф. Э. Дзержинского), на даче Кушелева-Безбородко, на правом берегу Невы (ныне Свердловская набережная, 40), и другие. Но, конечно, самыми популярными были симфонические концерты в прославленном Павловском вокзале под управлением "короля вальсов" Иоганна Штрауса.
В 1850-е годы в Петербурге существовало множество музыкальных развлечений, рассчитанных на вкусы людей разных сословий. По улицам и дворам ходили итальянцы-шарманщики или савояры с обезьянками и маленькими органчиками, бродячие певцы. Мальчишки, дети бедняков, показывали в коробке или корзинке ежей, морских свинок, громко взывая к зрителям: "Посмотрите, господа, да посмотрите, господа, да на зверя морского!" Такие сценки часто случалось наблюдать и Модесту. Они откладывались в памяти и через много лет возродились в его произведениях.
Непременными участниками столичных развлечений были раешники, или кукольники. Без них не обходилось ни одно гуляние на Адмиралтейской площади на масленицу и пасху. Здесь устанавливалось множество балаганов. И какие только номера не предлагались петербургской -публике! Шум, гам, выкрики сбитенщиков и торговцев сластями, звуки шарманки, громогласные нараспев шутки и прибаутки раешников: "А вот, изволите видеть, сражение: турки валятся, как чурки, а наши здоровы, только безголовы..." Хохот толпы в ответ на выходки "дедов" с каруселей и разноголосый говор - все сливалось в нестройный веселый хор. Представления в некоторых балаганах отличались большой роскошью. Ставились не только шуточные, но и "патриотические" пьесы.

Под влиянием разнообразных музыкальных и театральных впечатлений Мусоргский пробовал и сам сочинять. Он начал писать оперу, избрав в качестве либретто роман Виктора Гюго "Ган Исландец". Сюжет с остродраматическими эпизодами захватил его. Однако из этого замысла "ничего не вышло, потому что не могло выйти", как впоследствии, подсмеиваясь над своей юношеской попыткой, заметил сам композитор.
Один из товарищей Мусоргского по полку Федор Ардалионович Ванлярский, любитель серьезной музыки (впоследствии крупный чиновник, с которым композитор сохранил приятельские отношения на всю жизнь), был знаком с А. С. Даргомыжским. Премьера "Русалки" весной 1856 года, не имевшая успеха у аристократической публики, вызвала интерес Мусоргского и его друзей, а личность творца "Русалки" представлялась Модесту исключительной.
Моховая улица, дом 30, отмеченный теперь мемориальной доской, указывающей, что здесь с середины 1840-х годов жил замечательный композитор Александр Сергеевич Даргомыжский (Нумерация домов на Моховой несколько раз менялась: в 1850-х годах дом Есакова имел номер 25, в 60-70-х годах это был дом 26. В доме Есакова Даргомыжский вначале занимал большую квартиру вместе со своим отцом, а после смерти отца в 1864 году переселился в другую, меньшую. ). Этот дом (Есакова) был притягателен для всех, кто любил русскую музыку.
Гостеприимный салон Даргомыжского пользовался широкой известностью. Музыкальные вечера Александра Сергеевича играли большую роль в культурной жизни Петербурга, особенно со второй половины 1840-х годов. Именно здесь чаще всего можно было услышать новые сочинения русских композиторов. Ведь в те годы национальная музыка находилась в бедственном положении. На императорской сцене безраздельно царила итальянская опера, в концертных залах подвизались виртуозы-иностранцы, и русским музыкантам негде было показывать свои произведения. Дом Даргомыжского стал единственным местом в Петербурге, где звучали сочинения отечественных композиторов.
Сам Александр Сергеевич славился как превосходный исполнитель романсов. У него был некрасивый сиплый голос, но все забывалось, стоило ему запеть, - так правдиво и выразительно передавал он мысль, заложенную в произведении, с таким чувством и вкусом декламировал. Даргомыжский был также отличным пианистом.
Посетив прославленного композитора, Мусоргский пришел в восторг и от личности Даргомыжского и от услышанной музыки. Именно после знакомства с Даргомыжским он понял, что музыка - цель и содержание его жизни. Александру Сергеевичу Мусоргский тоже понравился, особенно высоко оценил он блестящую фортепианную технику юного преображенца.
1857 год оказался переломным в жизни Мусоргского. Для русской музыки год этот начался трагически. 3 февраля в Берлине скончался великий Глинка. И, словно восполняя эту утрату, вышла на музыкальную арену плеяда молодых талантливых композиторов, последователей и продолжателей основоположника русской классической музыки.
Еще в январе 1856 года на музыкальном вечере у инспектора Петербургского университета Александра Ивановича Фитцума, большого любителя музыки и организатора университетских концертов, впервые встретились двое молодых людей - композитор и блестящий пианист Милий Алексеевич Балакирев и военный инженер, начинающий критик и композитор Цезарь Антонович Кюи. Они подружились и стали часто видеться друг с другом. В конце 1857 года на одном из вечеров у Даргомыжского они познакомились с Мусоргским.
Эти на первый взгляд обычные знакомства оказались знаменательными. Они положили начало творческому содружеству молодых русских музыкантов, впоследствии вошедшему в историю русской музыки под именем Балакиревского кружка, или "Могучей кучки" (Впервые в печати название "Могучая кучка" появилось в 1867 году в статье В. В. Стасова "Славянский концерт г. Балакирева", посвященной концерту под управлением Балакирева в честь съезда представителей славянских стран. ).
Зарождение "Могучей кучки" совпало с периодом общественного подъема. После поражения России в Крымской войне передовые люди страны еще яснее стали сознавать, что самодержавно-крепостнический строй изжил себя. Во всех сферах общественной жизни шли поиски новых путей. Прогрессивная общественность понимала, что дальнейшее развитие России невозможно без отмены крепостного права. Проблема освобождения крестьян и способы ее разрешения - путем революции или путем реформы - явились причиной острой идейной борьбы. Она разделила русскую общественность на два стана: с одной стороны - демократы и революционеры, с другой - консерваторы и либералы.
В Петербурге общественный подъем проявлялся с особой силой. Он вызвал небывалый расцвет науки, литературы, искусства, в том числе и музыки. Задачи передового русского искусства изложил вождь революционной демократии П. Г. Чернышевский в своей диссертации "Эстетические отношения искусства к действительности".
Основой развития всех видов искусства Чернышевский считал близость к народу, отражение его коренных интересов, изображение подлинной правды жизни и борьбу против так называемого "чистого искусства", уводящего от живой реальности.
Прекрасное, учил Чернышевский, - это сама жизнь. Именно жизнь во всей правде должна быть предметом искусства, которое призвано помочь людям понять действительность, быть "учебником жизни".
Идеи Чернышевского оказали огромное влияние на развитие передового демократического искусства. Нет сомнения, что эстетическое учение Чернышевского сыграло свою роль и в формировании взглядов балакиревцев, в том числе Мусоргского. Балакиревский кружок по своей идейной и эстетической направленности занял выдающееся место в русском искусстве 60-х - начала 70-х годов XIX века. Композиторы, вошедшие в него, были по своим взглядам близки представителям революционной демократии.
Кружок сформировался в 1857-1862 годы. Постепенно к нему примкнули новые лица. Осенью 1861 года приятель Балакирева, известный фортепианный педагог Ф. А. Канилле привел к Милию Алексеевичу юного воспитанника Морского корпуса Николая Андреевича Римского-Корсакова. В 1862 году к балакиревцам присоединился молодой профессор Медико-хирургической академии и талантливый химик Александр Порфирьевич Бородин. В разные годы в кружок входили также способные музыканты А. С. Гуссаковский, Н. В. Щербачев, Н. Н. Лодыженский, которые, впрочем, по разным причинам отошли от него и не оставили заметного следа в истории русской музыкальной культуры.
Объединенные общностью взглядов и эстетических устремлений, одинаковым пониманием задач и целей русской музыкальной культуры, четверо выдающихся музыкантов членов кружка - Балакирев, Бородин, Мусоргский и Римский-Корсаков - внесли огромный вклад в развитие русской музыки. Кюи получил известность как музыкальный критик, но его композиторская деятельность исторически оказалась достаточно скромной и только в силу случайных обстоятельств он вошел в "Пятерку" (Под таким названием "Могучая кучка" получила известность за рубежом, в частности во Франции ("Les cinqs"). ) почти на равных правах.
Опираясь на творческое наследие Глинки и на народную песню, молодые композиторы боролись с рутиной и искали непроторенных дорог. Они ратовали за народность и жизненную правду музыкального искусства, за утверждение в нем больших, социально значимых тем.
Особенным вниманием в Балакиревском кружке пользовалась народная песня. Собирание и изучение произведений народного творчества наряду с освоением наследия Глинки определили направленность кружка. Однако в отличие от Глинки, который широко использовал не только крестьянскую песню, но и городской фольклор, балакиревцы считали подлинно народной только крестьянскую песню, в чем сказалась известная ограниченность их взглядов.
С большим интересом относились члены кружка к музыкальной культуре других народов. И в этом они тоже следовали заветам основоположника русской классической музыки - Глинка обращался к украинскому, испанскому и восточному фольклору. Восточная тема - совершенно новая для русской музыки - явилась замечательным его вкладом в русское музыкальное искусство. Балакиревцы с успехом развивали это достижение своего великого предшественника.
Кружок состоял из людей с очень разными творческими индивидуальностями, но их объединили и сблизили любимое дело и общность взглядов. Главой "Могучей кучки" был Милий Алексеевич Балакирев. Этот выдающийся музыкант родился в 1836 году в Нижнем Новгороде в небогатой дворянской семье. С детства у него обнаружились необыкновенные музыкальные способности. Получив образование в Нижегородском дворянском институте, Балакирев поступил в Казанский университет на физико-математический факультет. Но, проучившись два года, он бросил университет и решил посвятить себя исключительно музыке, Вскоре Балакирев познакомился с известным меценатом и музыкальным писателем А. Д. Улыбышевым. На вечерах Улыбышева талантливый юноша выступал как дирижер, тогда же он стал сочинять музыку. В доме Улыбышева Балакирев встретился с известным пианистом Антоном Контским. Тот оценил дарование молодого музыканта и стал давать ему бесплатные уроки. В конце 1855 года Улыбышев повез Балакирева в столицу.

В Петербурге никому доселе не известный музыкант из провинции сразу завоевал признание как превосходный пианист, и на него обратил внимание Глинка. Великий композитор, с которым Балакирева познакомил Улыбышев, предсказывал Милию Алексеевичу блестящую будущность.
Балакирев обладал феноменальной памятью. Сидя за роялем и непрерывно иллюстрируя свои слова музыкой, он мог вести увлекательные беседы о любом известном композиторе. Блестяще играл произведения Бетховена, Глинки, Шумана, Берлиоза, Листа. В то же время Балакирев был талантливым педагогом. Хотя он нигде не учился, он благодаря врожденной музыкальности и огромной памяти самостоятельно постиг законы композиции.
Вскоре после первого знакомства стал его учеником и Модест Мусоргский. Балакирев интуитивно совершенно правильно подошел к своему питомцу. Он положил в основу преподавания практическое знакомство с музыкальным наследием прошлого, что явилось отличной школой для Мусоргского. Совместное музицирование, разбор и критика исполняемых произведений, опыты сочинения в классической сонатной форме дали Мусоргскому значительно больше, чем он мог бы получить от преподавателя, владеющего всеми премудростями школьной методики. При этом Балакирев был удивительно чуток к малейшим недостаткам формы и не признавал слепого следования классическим образцам, а требовал, чтобы молодой композитор искал новые формы, которые соответствовали бы новому содержанию.

Моложе всех в кружке Балакирева был Николай Андреевич Римский-Корсаков. Он родился в 1844 году в Тихвине и ко времени знакомства с Балакиревым учился в последнем классе Морского корпуса. В семье Римских-Корсаковых профессия моряков была потомственной, и родители Николая Андреевича мечтали, что сын будет адмиралом. Но их надежды не сбылись. Хотя после окончания корпуса Римский-Корсаков провел три года в плавании и еще долгое время после того не расставался с морской службой, все же музыка взяла верх. Он стал композитором.

Цезарь Антонович Кюи был на год старше Балакирева. Он родился в 1835 году в Вильно в семье француза и литовки. В юности брал уроки у известного польского композитора Станислава Монюшко, автора оперы "Галька". Приехав в Петербург, Кюи окончил Военно-инженерную академию и преподавал в военных учебных заведениях фортификацию. Ко времени, когда возник Балакиревский кружок, Кюи начал пробовать свои силы в композиции.
Самым старшим по возрасту был в кружке Александр Порфирьевич Бородин. Он родился в 1833 году в Петербурге. Внебрачный сын мещанки и аристократа, он получил фамилию и отчество дворового человека своего отца. Мальчика воспитывала мать. В 1843 году незадолго до смерти отец составил на него "вольную".

Окончив Медико-хирургическую академию, Бородин уехал в Германию, где намеревался совершенствовать свои знания как химик. В Гейдельберге он встретил москвичку, талантливую пианистку Екатерину Сергеевну Протопопову. Общность музыкальных интересов - Бородин с детства увлекался музыкой - сблизила их, и по возвращении в Петербург они поженились. Бородин получил кафедру химии в Медико-хирургической академии и квартиру при лаборатории (ныне набережная Пирогова, дом 2). Вскоре он познакомился с Балакиревым.
Если Балакирев был музыкальным руководителем кружка, то его духовным вождем по справедливости считается Владимир Васильевич Стасов. Он родился в 1824 году и был намного старше своих товарищей. Юрист по образованию (окончил Училище правоведения), Стасов, с юности увлекавшийся литературой и искусством, рано оставил юриспруденцию и стал художественным критиком. Он отличался поразительной начитанностью, незаурядными литературными способностями ж блестящим даром полемиста, умевшего увлеченно и страстно излагать свои убеждения. С 1856 года до конца жизни Стасов служил в Публичной библиотеке, возглавляя ее художественный отдел.
Работа в библиотеке, кропотливое изучение ее богатейших фондов дали Стасову обширнейшие знания в области литературы, истории, археологии, народного творчества. Обладая замечательной художественной интуицией и понимая, какие сюжеты могут увлечь того или иного из его друзей-художников и композиторов, Стасов сделался их первым помощником и советчиком. Он был полон интересных замыслов и умел вовремя указать тему, над которой стоит работать тому или иному из них.

В идейном формировании В. В. Стасова большую роль сыграли труды революционных демократов. Он с юности увлекался Белинским, зачитывался Чернышевским, Добролюбовым, Герценом.
Стасов познакомился с Балакиревым в 1856 году. Владимир Васильевич вдохновлял своих товарищей смелостью и страстностью суждений, заражал непреклонной верой в их призвание. Он твердо отстаивал народность, демократизм и жизненную правду в искусстве, решительно боролся с рутиной и консерватизмом.
Стасов первый оценил историческое значение творчества композиторов Балакиревского кружка для русской музыки. Именно он назвал это содружество "Могучей кучкой".
С конца 1850-х годов Балакирев жил "на канаве", на углу Большой Подьяческой, у Харламова моста, в доме Каменецкого (ныне канал Грибоедова, дом 116/29). "Канавой" в просторечии назывался Екатерининский канал. Любопытно, что Мусоргский нередко так и адресовал Балакиреву письма: "Канава у Харламова моста". Балакирев жил там до 1860 года, а потом переехал на Вознесенскую улицу в дом Иванова (ныне проспект Майорова, дом 47).
В течение недели он давал уроки, занимался сочинением и подготовкой к выступлениям, а по субботам у него собирались друзья и единомышленники - Мусоргский, Кюи, Стасов, Гуссаковский. Постоянными посетителями были певцы-любители - востоковед А. П. Арсеньев, прозванный в шутку "Мустафой", и певец-любитель офицер В. В. Захарьин по прозвищу "Васенька". Участвовала в этих собраниях и жена Захарьина (сестра Арсеньева) Авдотья Петровна - отличная пианистка. Иногда посещали Балакирева приезжавший из Москвы живописец Г. Г. Мясоедов, а также писатель П. Д. Боборыкин. Иной раз набиралось столько народу, что в комнате едва можно было повернуться. Но никто не обращал внимания на тесноту. Вечера проходили интересно и оживленно. Играли произведения Шумана, Берлиоза, Листа, Бетховена, а также свои собственные. Каждый приносил на суд товарищей не только завершенные вещи, но большей частью отрывки.
Исполненные произведения подробно обсуждались. Это давало возможность молодым музыкантам познавать на практике законы композиции, технику инструментовки, изучать образцы, которым они стремились следовать. Сочинения членов кружка также строго разбирались, причем Милий Алексеевич давал указания, многое исправлял. Он мгновенно улавливал технические просчеты, тут же садился за рояль и показывал, как, по его мнению, надо изменить то или иное место. Горячее участие в обсуждении нового произведения принимали все присутствовавшие.
Особенно заметной фигурой на вечерах Балакирева был Мусоргский. Он играл с Милием Алексеевичем в четыре руки, аккомпанировал певцам и сам охотно пел, восхищая слушателей изумительным даром декламации. Кроме музицирования читали вслух произведения Герцена, Белинского, Чернышевского, Добролюбова, историков Соловьева, Костомарова и Кавелина; из художественной литературы-Гомера, Шекспира, Гоголя. В. В. Стасов обладал великолепным даром чтеца. Особенно восхищались слушатели его мастерским чтением гоголевских "Вечеров на хуторе близ Диканьки" и "Миргорода".
Когда в кружок вошел Бородин, стали встречаться и у него дома. Жена Александра Порфирьевича, известная пианистка, с интересом относившаяся к творчеству молодых композиторов, приветливо принимала всю компанию.
У Кюи часто устраивались домашние спектакли, на которых присутствовали все члены кружка. Сохранились афиши таких представлений. В одной из них сказано, что Мусоргский исполнял главную роль в одноактной комедии Виктора Крылова "Прямо набело". Спектакль состоялся на девишнике у невесты Кюи Мальвины Рафаиловны Бамберг накануне их свадьбы (Малая Итальянская улица - ныне улица Жуковского; дом не найден).
В другом спектакле - тоже у Бамбергов - Мусоргский пел главную роль Мандарина Кау-Цинга в комической опере Кюи "Сын Мандарина". На спектакле присутствовал и Даргомыжский. Слушатели восхищались неподражаемым комизмом, с которым исполнил роль Мандарина Модест Петрович, заставляя зрителей весело смеяться. В тот же вечер играли сцену Гоголя "Тяжба", в ней в роли чиновника Пролетаева выступал Филарет Мусоргский.
Кюи после женитьбы поселился на Воскресенском проспекте (ныне проспект Чернышевского).
У него было два рояля, поэтому на его вечерах исполняли обычно фортепианные переложения больших симфонических произведений. Друзья особенно увлекались недавно сочиненной Балакиревым музыкой к трагедии Шекспира "Король Лир". Мусоргский сделал переложение партитуры "Лира" для фортепиано в четыре руки, и для него было большой радостью играть вместе с учителем "Шествие" из этого произведения.
Сближение с Балакиревский кружком расширило круг знакомств Мусоргского. Особенно большое значение для него имела дружеская связь с семейством Стасовых - братьями и сестрой Владимира Васильевича.
С его младшим братом, Дмитрием Васильевичем, Модест Петрович встретился впервые у Балакирева весной 1858 года. Милий Алексеевич тогда тяжело болел, и Мусоргский с Дмитрием Стасовым дежурили у постели больного. С этого времени началось их сближение.
Дмитрий Васильевич окончил, как и брат, Училище правоведения и был разносторонне образован и широко эрудирован. Превосходный музыкант-любитель, в прошлом он был одним из друзей Глинки. Дмитрий Васильевич позднее получил широкую известность, выступая адвокатом на народнических процессах 60-х - 70-х годов, за что царское правительство не раз подвергало его репрессиям.
До женитьбы в 1861 году на известной общественной деятельнице в области женского образования Поликсене Степановне Кузнецовой Дмитрий Васильевич жил вместе с братьями и сестрой. Братья Стасовы - Николай, Александр, Владимир и Дмитрий - и их сестра Надежда занимали большую квартиру на Моховой улице в доме Мелихова (ныне дом 26). На фасаде этого дома теперь установлена мемориальная доска, посвященная В. В. Стасову.
Каждый из обитателей "мелиховского заведения", как в шутку прозвали друзья их квартиру, был интересным, содержательным человеком. Модест Петрович особенно сблизился со старшей сестрой Стасовых - Надеждой Васильевной. Человек большого ума и прогрессивных взглядов, она, как и жена Дмитрия Васильевича, была крупной деятельницей в области женского образования.
В семье Стасовых существовала давняя традиция - еще со времен, когда был жив их отец, известный архитектор, по воскресеньям у них всегда собирались родные и знакомые. Одни приходили к обеду, другие вечером. Собрания бывали многоотводные. Стасовых посещали литераторы, художники, музыканты, ученые - друзья всех братьев и сестры. Здесь можно было встретить историка Н. И. Костомарова, искусствоведа П. В. Павлова, гравера Н. И. Уткина, пианиста и композитора А. Г. Рубинштейна. Нередко заходили филолог В. И. Ламанский, писатель Д. В. Григорович, архитекторы А. И. Штакеншнейдер и В. М. Горностаев, скрипач Генрик Венявский, пианист Иосиф Гунке и многие другие.
Здесь велись разговоры на разные актуальные темы - о женском образовании, о крестьянской и судейской реформе, об экономике и политике, читались и обсуждались новые литературные произведения. И всегда в доме Стасовых звучала музыка.
В "мелиховском заведении" Модест Петрович был дорогим и желанным гостем. По-прежнему посещал он - правда, теперь значительно реже - и Даргомыжского, жившего через дом от Стасовых.
Сколько раз в течение многих лет после музыкальных вечеров у Даргомыжского или у Стасова выходили оживленной гурьбой Балакирев, Бородин, Римский-Корсаков, Кюи, Мусоргский и их друзья! У подъезда начинали прощаться, чтобы разойтись в разные стороны, но было жаль прерывать увлекательный разговор, и они, потоптавшись на месте, начинали провожать друг друга. То дойдут до старинной церкви Симеона и Анны на углу Симеоновской улицы (ныне Белинского), то повернут обратно, не в силах расстаться... И так часто Модест Петрович, проводив всех по очереди, шел один по ночному Петербургу, любуясь фантастическими силуэтами зданий. Потом, спохватившись, окликал ночного извозчика и ехал домой, переполненный впечатлениями минувшего вечера.

Дружба с семейством Стасовых сыграла большую роль в интеллектуальном развитии Мусоргского. Его острый ум с необычайной быстротой воспринимал жизненные впечатления и знания, которые давали ему общение с разносторонне образованными людьми круга Стасовых и чтение. Читал он много и, как сам Модест Петрович признавался, обязательно "между строк", т. е. постигая прочитанное во всей глубине и сложности, делая выводы и обобщения, относящиеся не только непосредственно к предмету чтения, но и к другим, казалось бы далеким, темам - прежде всего к задачам искусства вообще и музыки в частности.
Он очень ценил и любил живой обмен мнениями, всегда охотно принимал участие; в спорах. Не случайно позднее он как-то заметил в одной, из писем к Стасову: "...не толкайся я, без спросу, во всякий мало-мальски интересный спор или путную беседу - не быть бы мне".
Уже в то время Модест Петрович стал обращать на себя внимание друзей полной самостоятельностью и независимостью суждений. Для него не существовало авторитетов, которые могли бы заставить его отказаться от убеждений. Его воззрения на цели и задачи искусства, сложившиеся под несомненным влиянием идей революционной демократии, к этому времени четко определились.
Широкий круг знакомств, встречи с писателями, учеными, деятелями искусства расширили кругозор Мусоргского. Он стал интересоваться не только музыкой, литературой, но изобразительным искусством и наукой. Модест Петрович изучал труды по философии и естествознанию. Поздней большой интерес вызывало у него учение Дарвина, дававшее естественнонаучное объяснение происхождения человека, опровергавшее идеалистические представления. Недаром Мусоргский писал Стасову: "Дарвин утвердил меня крепко в том, что было моею заветною мечтою".
Конец 1850-х и начало 1860-х годов были в жизни Мусоргского периодом учения и поисков собственного творческого пути. Он окончательно убедился, что его призвание - музыка. В то же время он понял, что военная служба несовместима с серьезными занятиями, со стремлением посвятить свою жизнь композиторской деятельности. И Модест Петрович принял решение выйти в отставку.

В. В. Стасов отговаривал его от этого намерения. "Мог же Лермонтов оставаться гусарским офицером и быть великим поэтом, невзирая ни на какие дежурства в полку и на гауптвахте, невзирая ни на какие разводы и парады", - говорил он Мусоргскому. Но Модест Петрович на это твердо отвечал: "То был Лермонтов, а то я; он, может быть, умел сладить и с тем, и с другим, а я - нет; мне служба мешает заниматься, как мне надо".
И он подал прошение об отставке. 11 июня 1858 года вышел приказ по Преображенскому полку, в котором говорилось, что "прапорщик Мусоргский-второй по домашним обстоятельствам увольняется от службы подпоручиком".
В то время материальное положение семьи было далеко не блестящим, но все же Модест Петрович мог существовать независимо на скромный доход от имения. Он по-прежнему жил с матерью и братом, по-прежнему усердно занимался с Балакиревым, изучая законы композиции, посещал знакомых, у которых охотно пел и играл один или в четыре руки и, разумеется, сочинял.
Это были, главным образом, учебные работы: части сонат - для овладения сонатной формой, переложения оркестровых пьес других композиторов. Но наряду с этим молодой композитор независимо от указаний Балакирева писал и самостоятельные произведения. Среди них несколько романсов. Тогда же он задумал и первую большую работу - музыку к трагедии Софокла "Эдип в Афинах". Мусоргского увлекли коллизии этого произведения - бурное столкновение страстей, исторические повороты в судьбе народа. Народ в момент постигших его бедствий - это образ, который с ранних лет привлекал Мусоргского и позднее стал центральном в его творчестве. Из многочисленных набросков музыки к "Эдипу" сохранилась лишь сцена в храме: народ молит богов отвести от него надвигающиеся бедствия. В музыке хора ясно проступает русская мелодика.
Выйдя в отставку, Мусоргский очень изменился и внутренне и внешне. Когда в конце 1859 года произошла его вторая встреча с Бородиным у адъюнкт-профессора Медико-хирургической академии и доктора артиллерийского училища Ивановского, Бородин не мог не отметить, что от былого фатовства в облике Мусоргского не осталось и следа. Модест Петрович сообщил Бородину, что вышел в отставку, чтобы специально заниматься музыкой и сыграл ему свое Скерцо B-dur .
"Признаюсь, - вспоминал Бородин, - заявление его, что он хочет посвятить себя серьезно музыке, сначала было встречено мною с недоверием и показалось маленьким хвастовством; внутренне я подсмеивался немножко над этим, но, познакомившись с его "Скерцо", призадумался: верить или не верить?"
А когда они встретились у Балакирева в 1862 году, Бородин поразился, какая перемена произошла в его старом знакомце, как интересны стали его суждения о жизни, о музыке, с каким блеском и в то же время глубиной постижения замысла исполнял он произведения разных композиторов. Перед Бородиным предстал новый, очень интересный, духовно выросший человек.
И это не случайно. Выйдя в отставку, Модест Петрович много работал над собой, "приводил мозги в порядок", как шутя заметит он позже.
Летом 1862 года мать Мусоргского переселилась в свою псковскую деревню. Филарет Петрович вышел в отставку, женился и переехал на Знаменскую улицу (номер дома не установлен, известно только, что квартира была в первом этаже). А Модест Петрович уехал на время в Псковскую губернию, к родственникам. Вернувшись осенью в Петербург, он поселился с братом "в странах Знаменских", как в шутку писал Балакиреву, приглашая его в гости.
Балакирев летом 1862 года тоже переехал - в дом Хилькевича на углу Офицерской улицы и Прачечного переулка (ныне улица Декабристов, дом 17/9). По-прежнему у него в доме собирались друзья-музыканты - теперь по средам. Кроме них посетителями балакиревских сред стали многие литераторы, любители музыки.
Особенно часто тогда бывал у Балакирева известный хоровой дирижер Гавриил Якимович Ломакин. Оба в это время увлеклись идеей создания Бесплатной музыкальной школы. По их замыслу, такая школа должна была способствовать демократизации музыкального образования в России и противостоять Консерватории, которая представлялась им воплощением казенщины и рутины, очагом пропаганды немецкой музыки во вред развитию национальной.
Консерватория была детищем Русского музыкального общества, учрежденного в 1859 году по инициативе А. Г. Рубинштейна. Оно ставило своей целью "развитие музыкального образования и вкуса к музыке в России и поощрение отечественных талантов". В комитет директоров, стоявший во главе РМО, входили прогрессивные общественные деятели и видные музыканты Матвей Юрьевич Виельгорский, В. А. Кологривов, А. Г. Рубинштейн, Д. В. Стасов и другие. Деятельность РМО постепенно расширялась. Открылись его отделения в других городах.
Помимо устройства симфонических и камерных концертов РМО открыло сначала в Петербурге, а потом в Москве Музыкальные классы. На основе Музыкальных классов возникли Петербургская, а позже Московская консерватории.
К сожалению, зависимость дирекции РМО от высокопоставленных покровителей, их консерватизм и реакционность во многом тормозили работу Общества. Однако, несмотря на это деятельность и самого Общества и созданных им консерваторий имела огромное прогрессивное значение. Появление Петербургской консерватории положило начало профессиональному музыкальному образованию в России. Создатель и руководитель первой русской консерватории А. Г. Рубинштейн был горячим почитателем творчества М. И. Глинки.
Объективно-исторически и Консерватория, и Бесплатная музыкальная школа, открывшиеся почти одновременно - в 1862 году, служили общей цели - нести музыкальную культуру в широкие массы населения. Однако в период создания Консерватории некоторые частные недостатки в ее деятельности мешали членам Балакиревского кружка понять это. Частности воспринимались как коренные пороки, и балакиревцы с воинственным пылом обличали консерваторских педагогов. Время показало, как ошибочно и субъективно было их мнение о Консерватории.
Между тем в самом кружке постепенно тоже стали обнаруживаться острые противоречия. Молодые композиторы из робких, неуверенных в себе учеников, беспрекословно следовавших указаниям Балакирева, вырастали, приобретали самостоятельность. Со временем все отчетливее проявлялась в каждом из них творческая индивидуальность. Оставаясь единомышленниками в главном - в понимании целей и задач музыки, в своем творчестве они становились все более непохожи один на другого, приобретали самостоятельную манеру, вырабатывали свой стиль. А Балакирев не мог этого понять.
Будучи отличным педагогом, он обладал одной особенностью характера, которая со временем все усиливалась и впоследствии - в 1870-х годах - вызвала отчуждение от него многих близких ему людей: он был очень властен и не терпел никакого противоречия себе. Участники кружка сначала смиренно переносили это, но со временем, когда они стали приобретать творческую самостоятельность, властность Балакирева, доходившая до деспотизма, стала вызывать их протест. Раньше всех начал высвобождаться из-под контроля учителя Мусоргский.
Первое столкновение между ним и Балакиревым произошло зимой 1861 года. Мусоргский тогда был в Москве. Там Модест Петрович познакомился с молодыми людьми, которых в письме к Балакиреву назвал "бывшими студентами". Надо полагать, что это были исключенные из университета за свободомыслие. В письме Балакиреву он так определил содержание бесед с ними: "...всё ставим на ноги - и историю, и администрацию, и химию, и искусства". Завуалированно - письма в то время перлюстрировались - он сообщал о том, что в этом кругу велись споры о политике, обсуждались наболевшие вопросы общественной жизни. Если вспомнить, что это происходило накануне появления манифеста об "освобождении" крестьян, то содержание и политическая окраска бесед не вызывают никаких сомнений.
Восторженный рассказ Мусоргского о встречах с интересными для него людьми Балакирев неожиданно принял в штыки. Милий Алексеевич в ответном письме упрекнул его в пустом препровождении времени. Письмо Балакирева не сохранилось, но о его содержании нетрудно догадаться по ответу Мусоргского.
Покорный прежде ученик неожиданно восстал против учителя и сам отчитал его. Свой ответ Модест Петрович закончил следующими, весьма знаменательными словами: "...письмо Ваше - побуждение досады ошибочной, потому что пора перестать видеть во мне ребенка, которого надо водить, чтобы он не упал".
Да, Мусоргский уже крепко стоял на ногах. Два года после выхода в отставку не прошли даром. Сказалась упорная, целеустремленная и систематическая работа над собой. Из музыканта-любителя вырастал яркий, самобытный художник.
Поразительно было его дарование быстро схватывать и осмысливать впечатления, которые давала ему жизнь. Угнаться за ним было невозможно не только его сверстникам, но и старшим товарищам. Мусоргский всегда был в курсе всех значительных событий в художественной и культурной жизни столицы, А в то время в Петербурге жизнь была необычайно оживленной. Создавались различные общества, комитеты, устраивались публичные лекции, стали входить в обыкновение открытые литературные чтения.
Мусоргский посещал общедоступные лекции о музыке известного музыкального критика и композитора А. Н. Серова, не пропускал интересных концертов. Надо полагать, что Модест Петрович присутствовал 10 января -1860 года в зале "Пассажа" (на Невском) на публичном Литературном чтении И. С. Тургенева, когда писатель выступил со своей статьей "Гамлет и Дон-Кихот" в пользу только что организованного Литературного фонда.
Здание "Пассажа", в котором располагались магазины, выставки, концертный и театральный залы, со второй половины 1850-х годов стало местом собраний, лекций, Диспутов. В зале "Пассажа", устраивались и первые литературные чтения, на которых выступали Достоевский, Писемский, Апухтин, Майков.
Не исключено, что Мусоргский присутствовал и на представлении комедии Гоголя "Ревизор" в исполнении писателей. Этот вечер состоялся 14 апреля того же года в зале Руадзе (позднее - зал Кононова в доме 61 на набережной Мойки, где теперь находится Электротехнический институт связи имени М. А. Бонч-Бруевича). В этом спектакле Писемский играл городничего, Вейнберг - Хлестакова, Достоевский - почтмейстера, а Тургенев, Майков, Дружинин, Григорович, Курочкин и Островский - купцов.
Присутствие Мусоргского на этом представлении тем более вероятно, что с большинством участников его он был знаком лично. Композитор сам сообщил об этом в "Автобиографии", написанной в 1880 году: "Сближение... с талантливым кружком музыкантов, постоянные беседы и завязавшиеся прочные связи с обширным кругом русских ученых и литераторов, каковы Владимир Ламанский, Тургенев, Костомаров, Григорович, Кавелин, Писемский, Шевченко и другие, особенно возбудило мозговую деятельность молодого композитора и дало ей серьезное, строго-научное направление" ("Автобиография" была написана от третьего лица для немецкого музыкального словаря. ).
Имена писателей Тургенева, Григоровича, Писемского и Шевченко в пояснениях не нуждаются. Что касается В. И. Ламанского, то это крупный филолог-славист, впоследствии академик; Н. И. Костомаров - знаменитый историк, а К. Д. Кавелин - юрист, историк, публицист и психолог, принимавший участие в разработке проекта освобождения крестьян, впоследствии в числе других передовых профессоров демонстративно покинувший кафедру в Петербургском университете в знак протеста против преследований студентов. Где именно встречался с ними Модест Петрович - не установлено. Возможно, что у В. В. Стасова.
С В. И. Ламанским и его братьями - большими любителями музыки - Мусоргский постоянно виделся в их квартире на Гороховой улице (ныне улица Дзержинского, дом 40). По-видимому, Модеста Петровича познакомил с ними Балакирев. Вместе с Милием Алексеевичем Мусоргский часто навещал их и исполнял с ним произведения своих товарищей, а также Шумана, Берлиоза, Листа.
Несомненно, привлекли внимание Мусоргского и первые публичные лекции профессоров Петербургского университета Кавелина, Костомарова, Стасюлевича. Правда, эти лекции, которые устраивались в зале Городской думы (ныне Невский проспект, дом 33), через два с половиной месяца были прекращены по воле "начальства", но и они, конечно, дали много молодому композитору.
В 1860-е годы Мусоргский стал непременным участником музыкальных вечеров у своих товарищей и многочисленных знакомых. Насколько незаменимо было его присутствие, подтверждает письмо Балакирева к одному общему с Мусоргским приятелю, написанное, когда Модест Петрович уезжал в деревню: "Четверги у Кюи совершенно расстроились, некому играть".
Мусоргский был в центре всех событий жизни Петербурга, связанных с музыкой. Он часто посещал Мариинский театр, по многу раз слушая одни и те же оперы, бывал на концертах Русского музыкального общества и, конечно, на всех концертах, а по возможности, и репетициях Бесплатной музыкальной школы. Эти концерты, пользовавшиеся огромной популярностью, привлекали главным образом студенческую молодежь, курсисток, мелких чиновников, учителей.
Устраивались они в Большом зале Дворянского собрания, в зале Кононова на Мойке или в зале Городской думы на Невском проспекте. Этот зал отличался хорошей акустикой и был одним из лучших концертных помещений в Петербурге. Наряду с мировыми шедеврами классической музыки там исполнялись произведения современных западноевропейских композиторов и новые русские сочинения.
Большой известностью пользовались в Петербурге и концерты Русского музыкального общества. Когда эти концерты возглавил Балакирев, Мусоргский, прежде неохотно посещавший симфонические вечера, где редко исполнялась современная музыка, стал их завсегдатаем. Они неизменно проходили в зале Дворянского собрания.
Состав публики на концертах был разный. Наряду с демократической публикой бывало много титулованных особ - крупных чиновников, светских меломанов.
Возглавив руководство концертами РМО, Балакирев решительно перестроил их программы. Он стал широко включать в них произведения русских композиторов. Это вызвало недовольство реакционных кругов, и после нескольких блистательных сезонов Балакирева отстранили от управления концертами Русского музыкального общества.
Большим торжеством Балакиревского кружка был успех Милия Алексеевича как композитора и дирижера 23 апреля 1864 года. В зале Русского кредитного общества (современный адрес: площадь Островского, дом 7) состоялся концерт, организованный Литературным фондом в честь трехсотлетней годовщины со дня рождения Шекспира. В концерте выступали Тургенев и Майков. Тургенев прочел "Речь по поводу юбилея Шекспира", а Майков стихотворение "Шекспир", специально написанное к юбилею. В программу вечера были включены также музыкальные произведения на сюжеты великого драматурга. Дирижировал Балакирев. Наряду с музыкой Берлиоза, Шумана и Мендельсона исполнялись балакиревские увертюра и антракты к трагедии "Король Лир". Успех был колоссальный. Друзья безмерно радовались. Мусоргский был так взволнован, что вскоре после концерта писал Балакиреву: "Такого полного, живого впечатления я не выносил (до тех пор) ни с одного вечера. Большое Вам за то спасибо".
С Русским музыкальным обществом связано первое публичное исполнение произведения Мусоргского. В концерте под управлением А. Г. Рубинштейна прозвучало его оркестровое Скерцо B-dur . Это было 11 января 1860 года. Дебют прошел удачно.
В рецензии на концерт А. Н. Серов, недоброжелательно относившийся к творчеству членов Балакиревского кружка, писал: "...еще приятнее было встретить горячее сочувствие публики к русскому композитору М. П. Мусоргскому, дебютировавшему весьма хорошею, к сожалению, только слишком короткою оркестровою пьесою. Это скерцо... обличает... решительный талант в молодом музыканте... Замечательно, что симфонический отрывок композитора еще неизвестного рядом с музыкой "знаменитого" маэстро (исполнялась пьеса прославленного композитора Д. Мейербера. - А. О.) не только не потерял ничего, но очень много выиграл".
Еще через год, 6 апреля 1861 года, в Мариинском театре в концерте русской оперы под управлением К. Н. Лядова с успехом исполнялся хор народа из "Эдипа". Но все-таки в те годы Мусоргский был больше известен в музыкальных кругах, чем в широкой публике. Признание композитора пришло поздней.