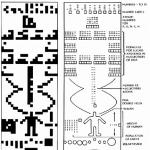Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ (МГИК)
Институт медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств
Специальности «Литературное творчество»
Кафедра журналистики
КУРСОВАЯ РАБОТА
По дисциплине «Проза»
На тему: «Формы поведения персонажей»
Выполнил: студентка 1 курса
Группы 129О
Сафронова Яна Владимировна
Проверил:
Елькина Марина…
Москва-2016
Введение
1. Формы поведения персонажей в эпических произведениях
2. Формы поведения персонажей в драматическом произведении
3. Взаимосвязь портрета и формы поведения персонажа
Заключение
Список использованной литературы
ВВЕДЕНИЕ
Когда молодой писатель садится за написание своей первой книги, перед ним встаёт масса вопросов: о ком писать? Как писать? Как сделать так, чтобы это выглядело естественно? И это только некоторые из них. Однако, с проблемами подобного рода сталкиваются не только молодые писатели, но и мастера.
Я остановлюсь на последнем вопросе, так как на мой взгляд труднее всего автору добиться, чтобы на страницах его романа или повести буйным цветом расцвела жизнь. На это могут повлиять многие факторы, такие как: поведение героев, достоверно выписанный пейзаж (для реалистических произведений), а также чёткое понимание времени и пространства. Первый - один из самых важных и сложных, ведь человеческая личность изучается уже сотни лет, и ещё никому не удавалось до конца проникнуть во все закоулки человеческой души.
Целью данной курсовой работы является анализ формы поведения персонажей в литературных произведениях.
Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд задач:
· Рассмотреть, как семиотический характер поведения влияет на художественный мир произведения
· Охарактеризовать культурно-историческую специфику форм поведения
· Исследовать связь портрета и формы поведения персонажей
Объектом исследования данной курсовой работы является классическая мировая литература, предметом - литературные персонажи классической мировой литературы.
1. ФОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ В ЭПИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
Формы поведения человека (и литературного персонажа, в частности) -- это совокупность движений и поз, жестов и мимики, произносимых слов с их интонациями. Они по своей природе динамичны и претерпевают бесконечные изменения в зависимости от ситуаций данного момента. Вместе с тем в основе этих текучих форм лежит устойчивая, стабильная данность, которую правомерно назвать поведенческой установкой или ориентацией. «По манере говорить, -- писал А.Ф. Лосев, -- по взгляду глаз <…> по держанию рук и ног <…> по голосу <… > не говоря уже о цельных поступках, я всегда могу узнать, что за личность передо мной <…> Наблюдая <…> выражение лица человека <…> вы видите здесь обязательно нечто внутреннее». Об этой стороне литературного творчества не раз говорили и сами писатели. Н.В. Гоголь в «Авторской исповеди» признавался: «Угадывать человека я мог только тогда, когда мне представлялись самые мельчайшие подробности его внешности». Знаменателен также совет А.П. Чехова брату Александру: «Лучше всего избегать описывать душевные состояния героев: нужно стараться, чтобы оно было понятно из действий героев». Личность героя при этом постигается более целостно: духовная сущность выступает в определенном внешнем обличье.
Формы поведения людей составляют одно из необходимых условий межличностного общения. Они весьма разнородны. В одних случаях поведение продиктовано традицией, обычаем, ритуалом, в иных, напротив, явственно обнаруживает черты именно данного человека и его свободную инициативу в сфере интонирования и жестикуляции. Люди, далее, могут вести себя непринужденно, ощущая себя внутренне свободными и верными себе, но также способны усилием воли и рассудка нарочито и искусственно демонстрировать словами и движениями нечто одно, затаив в душе что-то совсем иное: человек либо доверчиво открывает себя тем, кто в данный момент находится рядом, либо сдерживает и контролирует выражение своих импульсов и чувств, а то и прячет их под какой-либо маской. В поведении обнаруживается или игровая легкость, нередко сопряженная с веселостью и смехом, или, наоборот, сосредоточенная серьезность и озабоченность. Характер движений, жестов, интонаций во многом зависит от коммуникативной установки человека: от его намерения и привычки либо поучать других (поза и тон пророка, проповедника, оратора), либо, напротив, всецело полагаться на чей-то авторитет (позиция послушного ученика), либо, наконец, собеседовать с окружающими на началах равенства. И самое последнее: поведение в одних случаях внешне эффектно, броско и напоминает «укрупненные» движения и интонации актеров на сцене, в других -- непритязательно и буднично. Общество и, в частности, словесное искусство, таким образом, располагают определенным репертуаром, правомерно сказать даже языком форм поведения.
Формы поведения могут иметь знаковый характер. Для описания знаковых форм поведения воспользуемся классификацией Блаженного Августина, разделившего все знаки на «естественные» и «условные». По мнению средневекового мыслителя, «жесты, выражения лица, глаз, интонации голоса, отражающие состояние человека, желание-нежелание и т. п., составляют «естественный, общий всем народам язык», который усваивается детьми еще до того, как они научатся говорить». Например, когда человек закрывает лицо руками, -- это непроизвольно выражает его отчаяние. Но среди жестово-мимических движений человека могут быть и условные знаки: формы поведения, смысловая наполненность которых--величина переменная, зависящая от договоренности людей между собой (отдание чести военными, пионерский галстук у членов пионерской организации и т. д.). Таким образом они чисто условны и продиктованы той или иной ситуацией.
Вместе с тем человеческое поведение неизменно выходит за узкие рамки условной знаковости. Едва ли не центр «поведенческой сферы» составляют органически и непреднамеренно появляющиеся интонации, жесты и мимика, не предначертанные какими-то установками и социальными нормами. Это естественные признаки (симптомы) душевных переживаний и состояний. Они естественны и не поддаются какой-либо систематизации. «Закрыв лицо, я умоляла Бога» в стихотворении А.А. Ахматовой -- непроизвольный и легко узнаваемый каждым из людей жест смятения и отчаяния. Или, из Пастернака: «Брошусь на землю у ног распятья, обомру и закушу уста».
Свободное от условности, поведение вне рамок знаков далеко не всегда оказывается явным самораскрытием человека. Так, толстовский Пьер Безухов ошибается, полагая, что «выражение холодного достоинства» на лице Наташи Ростовой после разрыва с Волконским согласуется с ее настроенностью: «- он не знал, что душа Наташи была преисполнена отчаяния, стыда, унижения и что она не виновата была в том, что лицо ее невольно выражало спокойное достоинство и строгость» (Т. 2. Ч. 1. Гл. X).
Формы поведения воссоздаются, осмысливаются и оцениваются писателями активно, составляя не менее важную грань мира литературного произведения, чем собственно портреты. Эти две стороны художественной явленности персонажа как внешнего человека неуклонно взаимодействуют.
При этом характеристики портретные и «поведенческие» находят в произведениях различное воплощение. Первые, как правило, однократны и исчерпывающи: при появлении персонажа на страницах произведения автор описывает его наружность, чтобы к ней уже не возвращаться. Поведенческие же характеристики обычно рассредоточены в тексте, многократны и вариативны. Они обнаруживают внутренние и внешние перемены в жизни человека. К примеру, «Анна Каренина» Льва Толстого. «И по одному этому взгляду невольно просиявших глаз ее Левин понял, что она любила этого человека, понял так же верно, как если б она сказала ему это словами» - Левин может уловить оттенок отношения по её взгляду. И в следующей же сцене: «Кити посмотрела на его лицо, которое было на таком близком от нее расстоянии, и долго потом, через несколько лет, этот взгляд, полный любви, которым она тогда взглянула на него и на который он не ответил ей, мучительным стыдом резал ее сердце». У Льва Николаевича вообще очень много внимания уделено взгляду, глазам. По характеристике глаз и изменяющемуся их выражению мы можем понять настроение героя, его внутренние переживания, отношение к нему самого автора и т.д.
Формы поведения нередко предстают центром всего произведения, а порой предстают как источник серьезных конфликтов. В романе Жоржи Амаду «Генералы песчаных карьеров» молчание и покорность одного из главных героев - Безногого, стало причиной того, что добродетельная сеньора практически усыновила его, обманувшись тихим и скромным поведением юного бандита. Здесь же можно вспомнить о герое романа «Милый друг» Ги де Мопассана, Жорже Дюруа, который поставил себе цель: пробраться в высшее общество с помощью обходительности и учтивости.
Литература неизменно запечатлевает культурно-историческую специфику форм поведения. На ранних этапах словесности, а также в литературах средневековья воссоздавалось преимущественно предначертанное обычаем ритуальное поведение. Оно, как отмечает Д.С. Лихачев, говоря о древнерусской литературе, отвечало определенному этикету: в текстах преломлялись представления о том, «как должно было вести себя действующее лицо сообразно своему положению» -- в соответствии с традиционной нормой. Чёткая регламентированность - отличительная черта средневековья в общем, однако в литературе это отразилось наиболее ярко. Обратившись к «Чтению о житии и о погублении Бориса и Глеба», ученый показывает что герои ведут себя как «издавна наученные» и «благовоспитанные». Мы же можем вспомнить «Повесть о Горе и Злосчастии», где весь конфликт произведения строится на том, что главный герой нарушил общепринятую норму поведения - перестал уважать своих родителей и слушать их наказы.
Нечто аналогичное -- в эпосе древности, сказках, рыцарских романах. Даже та область человеческого бытия, которую мы ныне именуем частной жизнью, представала как ритуализованная и на театральный лад эффектная. Вот с какими словами обращается в «Илиаде» Гекуба к своему сыну Гектору, ненадолго покинувшему поля сражений и пришедшему в родной дом:
«Что ты, о сын мой, приходишь, оставив свирепую битву? Верно, жестоко теснят ненавистные мужи ахейцы, Ратуя близко стены? И тебя устремило к нам сердце: Хочешь ты, с замка троянского, руки воздеть к Олимпийцу? Но помедли, мой Гектор, вина я вынесу чашу Зевсу отцу возлиять и другим божествам вековечным. После и сам ты, когда пожелаешь испить, укрепишься; Мужу, трудом истомленному, силы вино обновляет; Ты же, мой сын, истомился, за граждан своих подвизаясь.»
И Гектор отвечает еще более пространно, говорит, почему он не дерзнет возлиять Зевсу вино «неомытой рукою».
Напомним также один из эпизодов гомеровской «Одиссеи». Ослепивший Полифема Одиссей, рискуя жизнью, обращается к разгневанному циклопу с гордой, на театральный лад эффектной речью, называет ему свое имя и рассказывает о своей судьбе.
В агиографической литературе средневековья, напротив, воссоздавалось поведение внешне «безвидное». В «Житии преподобного Феодосия Печерского» рассказывается, как святой в детстве, несмотря на материнские запреты и даже побои, «сторонился сверстников, носил ветхую одежду, работал в поле вместе со смердами». Землепашец («Житие преподобного и богоносного отца нашего, игумена Сергия, чудотворца»), приехавший увидеть «святого мужа Сергия», не узнал его в нищем работнике: «На том, кого вы указали, ничего не вижу -- ни чести, ни величия, ни славы, ни одежд красивых дорогих <…> ни слуг поспешных <…> но все рваное, все нищее, все сиротское». Святые (как и авторы агиографических текстов о них) опираются на евангельский образ Христа, а также на апостольские послания и святоотеческую литературу. «Частный вопрос «худых риз», -- справедливо замечает В.Н. Топоров, -- важный знак некоей целостной позиции и соответствующего ей жизненного поведения <…> эта позиция по сути своей аскетическая <…> выбирая ее, он (св. Феодосии Печерский. -- С.М.) постоянно имел перед своим духовным взором живой образ уничижения Христа» .
Совсем иные поведенческие ориентации и формы доминируют в низких жанрах древности и средневековья. В комедиях, фарсах, новеллах царит атмосфера вольных шуток и игр, перебранок и драк, абсолютной раскованности слова и жеста, которые, как показал М.М. Бахтин в книге о Ф. Рабле, вместе с тем сохраняют некоторую ритуальную обязательность, присущую традиционным массовым празднествам (карнавалам). Вот небольшая (и наиболее «пристойная») часть перечня «карнавальных повадок» Гаргантюа в детстве: «Вечно валялся в грязи, пачкал нос, мазал лицо», «утирал рукавом нос, сморкался в суп», «кусался, когда смеялся, смеялся, когда кусался, частенько плевал в колодец», «сам себя щекотал под мышками». К подобным мотивам повестей Рабле тянутся нити от Аристофана, комедии которого явили «образец всенародного, освобождающего, блестящего, буйного и жизнетворного смеха».
Новое время ознаменовалось интенсивным обогащением форм поведения как в общекультурной реальности, так и в литературных произведениях. Усилилось внимание к «внешнему человеку»: «Возрос интерес к эстетической стороне поступка вне его нравственной оценки, ибо критерий нравственности стал разнообразнее с тех пор, как индивидуализм расшатал исключительность старого этического кодекса», -- отмечал А. Н. Веселовский, рассматривая «Декамерон» Дж. Боккаччо». Наступило время интенсивного обновления, свободного выбора и самостоятельного созидания форм поведения. Это имело место и в пору Возрождения, когда был выработан этикет свободного умственного собеседования, и в эпоху классицизма, выдвинувшего на авансцену поведение моралиста-резонера, поборника и проповедника гражданских добродетелей.
Время радикального обновления форм поведения в русском обществе -- XVIII век, прошедший под знаком реформ Петра I, секуляризации общества и поспешной европеизации страны с ее достижениями и издержками. Знаменательна характеристика В.О. Ключевским положительных героев комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»: «Они явились ходячими, но еще безжизненными схемами морали, которую они надевали на себя, как маску. Нужны были время, усилия и опыт, чтобы пробудить жизнь в этих пока мертвенных культурных препаратах, чтобы эта моралистическая маска успела врасти в их тусклые лица и стать их живой нравственной физиономией».
Своеобразные поведенческие формы выработались в русле сентиментализма, как западноевропейского, так и русского. Провозглашение верности законам собственного сердца и «канон чувствительности» порождали меланхолические воздыхания и обильные слезы, которые нередко оборачивались экзальтацией и жеманством (над чем иронизировал А.С. Пушкин), а также позами вечной опечаленности (вспомним Жюли Карагину в «Войне и мире»).
Как никогда ранее, активным стал свободный выбор человеком форм поведения в эпоху романтизма. Многие литературные герои ныне ориентируются на определенные поведенческие образцы, жизненные и литературные. Знаменательны слова о Татьяне Лариной, которая, думая об Онегине, воображала себя героиней прочитанных ею романов: «Кларисой, Юлией, Дельфиной». Вспомним пушкинского Германна («Пиковая дама») в позе Наполеона, Печорина с его байроническим кокетством (разговаривая с княжной Мери, герой лермонтовского романа то принимает «глубоко трогательный вид», то иронически шутит, то произносит эффектный монолог о своей готовности любить весь мир и о роковой непонятости людьми, о своих одиноких страданиях).
Сходные «поведенческие» мотивы прозвучали в романе Стендаля «Красное и черное». Чтобы завоевать высокое положение в обществе, Жюльен Сорель поначалу выступает как благочестивый юноша, а позже, воодушевленный примером Наполеона, принимает позу «покорителя женских сердец», «человека, привыкшего быть неотразимым в глазах женщин», и разыгрывает эту роль перед госпожой де Реналь. «У него такой вид, -- скажет о нем одна из героинь романа, -- точно он все обдумывает и ни шагу не ступит, не рассчитав заранее». Автор замечает, что, позируя и рисуясь, Жюльен под влиянием окружающих и их советов «прилагал невероятные старания испортить все, что в нем было привлекательного».
В первой половине XIX в. появилось множество персонажей, подобных лермонтовскому Грушницкому и гоголевскому Хлестакову, чей облик «строился» в соответствии с модными стереотипами. В подобных случаях, по словам Ю.М. Лотмана, «поведение не вытекает из органических потребностей личности и не составляет с ней неразрывного целого, а «выбирается», как роль или костюм, и как бы «надевается» на личность». Ученый отмечал: «Герои Байрона и Пушкина, Марлинского и Лермонтова порождали целую фалангу подражателей <…> которые перенимали жесты, мимику, манеры поведения литературных персонажей <…> В случае с романтизмом сама действительность спешила подражать литературе».
Широкое распространение в начале XIX в. поведения игрового, «литературного», «театрального», сопряженного со всякого рода эффектными позами и масками, Ю.М. Лотман объяснял тем, что массовой психологии этой эпохи были свойственны «вера в собственное предназначение, представление о том, что мир полон великих людей». Вместе с тем он подчеркивал, что «поведенческие маскарады» как противовес традиционному, «рутинному» (по выражению ученого) поведению имели позитивное значение и были благоприятны для становления личности и обогащения общественного сознания: «… подход к своему поведению как сознательно творимому по законам и образцам высоких текстов» знаменовал появление новой «модели поведения», которая, «превращая человека в действующее лицо, освобождала его от автоматической власти группового поведения, обычая».
Разного рода искусственность, «сделанность» форм поведения, нарочитость позы и жеста, мимики и интонации, освещавшиеся критически уже в пору романтизма, стали в последующие эпохи вызывать к себе суровое и безусловно негативное отношение писателей. Вспомним толстовского Наполеона перед портретом сына: подумав, как ему в этот момент себя вести, полководец «сделал вид задумчивой нежности», после чего (!) «глаза его увлажнились». Актер, стало быть, сумел проникнуться духом роли. В постоянстве и равенстве себе интонаций и мимики Л.Н. Толстой усматривает симптомы искусственности и фальши, позерства и лжи. Берг всегда говорил точно и учтиво; Анну Михайловну Друбецкую никогда не покидал «озабоченный и вместе с тем христиански-кроткий вид»; Элен наделена «однообразно красивой улыбкой»; глаза Бориса Друбецкого были «спокойно и твердо застланы чем-то, как будто какая-то заслонка -- синие очки общежития -- были надеты на них». Знаменательны и слова Наташи Ростовой о Долохове: «У него все назначено, а я этого не люблю».
Неустанно внимателен и, можно сказать, нетерпим ко всякого рода актерствованию и амбициозной фальши Ф.М. Достоевский. Участники тайного заседания в «Бесах» «подозревали друг друга и один перед другим принимали разные осанки». Петр Верховенский, идя на встречу с Шаговым, «постарался переделать свой недовольный вид в ласковую физиономию». А позже советует: «Сочините-ка вашу физиономию, Ставрогин; я всегда сочиняю, когда к ним (членам революционного кружка. -- С.М.) вхожу. Побольше мрачности, и только, больше ничего не надо; очень нехитрая вещь». Весьма настойчиво выявляет Достоевский жесты и интонации людей болезненно самолюбивых и неуверенных в себе, тщетно пытающихся сыграть какую-то импозантную роль. Так, Лебядкин, знакомясь с Варварой Петровной Ставрогиной, «остановился, тупо глядя перед собой, но, однако, повернулся и сел на указанное место, у самых дверей. Сильная в себе неуверенность, а вместе с тем наглость и какая-то беспрерывная раздражительность сказывалась в выражении его физиономии. Он трусил ужасно <…> видимо боялся за каждое движение своего неуклюжего тела <…> Капитан замер на стуле с своею шляпой и перчатками в руках и не сводя бессмысленного взгляда своего со строгого лица Варвары Петровны. Ему, может быть, и хотелось бы внимательно осмотреться, но он пока еще не решался». В подобных эпизодах Достоевский художественно постигает ту закономерность человеческой психологии, которую много позже охарактеризовал М.М. Бахтин: «Человек <…> болезненно дорожащий производимым им внешним впечатлением, но не уверенный в нем, самолюбивый, теряет правильную <…> установку по отношению к своему телу, становится неповоротливым, не знает, куда деть руки, ноги; это происходит потому, что <…> контекст его самосознания путается контекстом сознания о нем другого».
Послепушкинская литература весьма критически освещала поведение скованное, несвободное, «футлярное» (воспользуемся лексикой А.П. Чехова). Вспомним осторожного и боязливого Беликова («Человек в футляре») и исполненную серьезности, отчужденную от близтекущей жизни Лидию Волчанинову («Дом с мезонином»). Писатели не принимали и противоположной крайности: неумения людей быть сдержанными (как гоголевский Хлестаков) и непомерную «открытость» их импульсов и порывов, чреватую всяческими скандалами. Именно таковы формы поведения Настасьи Филипповны и Ипполита в романе Ф.М. Достоевского «Идиот» или эгоиста и циника Федора Павловича Карамазова с его «бескорыстным» шутовством, которое стало его второй натурой.
В литературе XIX в. (и в эпоху романтизма, и позже) настойчиво воссоздавалось и поэтизировалось поведение, свободное от каких-либо масок и актерских поз, от сделанности, нарочитости, искусственности и при этом исполненное одухотворенности. В этой связи уместно назвать героиню новеллы Э.Т.А. Гофмана «Крошка Цахес, по прозвищу Циннобер»: Кандида отличается от манерно-возвышенных девиц «веселостью и непринужденностью», которые не лишают ее способности глубоко чувствовать. Среди жеманных испанских дам резко выделяется Имали -- героиня популярного в России романа Ч.Р. Метьюрина «Мельмот-скиталец»; девушке присущи живость, природное изящество, «удивительные непосредственность и прямота, которые сказывались в каждом ее взгляде и движении». Вспомним и героев А.С. Пушкина: Мироновых и Гриневых в «Капитанской дочке», Татьяну восьмой главы «Евгения Онегина» («Без притязаний на успех,/ Без этих маленьких ужимок,/ Без подражательных затей/ Все тихо, просто было в ней»), Моцарта в одной из маленьких трагедий. Великий композитор предстал здесь как бытовая фигура, воплощающая поэзию безыскусственной простоты, артистической легкости и изящества, способности к глубочайшим переживаниям и к веселой непосредственности. Пушкинский Моцарт готов живо откликнуться на все, что его окружает в каждый отдельный момент.
Быть может, ярче и многоплановее, чем где-либо еще, запечатлена и опоэтизировано поведение (прежде всего -- жестово-мимическое) в «Войне и мире» Л.Н. Толстого, внимание которого «сосредоточивается на том, что в человеке есть подвижного, моментально возникающего и исчезающего: голос, взгляд, мимический изгиб, летучие изменения линий тела» . «Его слова и действия выливались из него так же равномерно, необходимой непосредственно, как запах отделяется от цветка» -- эту мысль повествователя о Платоне Каратаеве вполне можно отнести и ко многим другим героям романа. «Он не играл никакой роли» -- сказано о Кутузове. Вот изображение смотра войск под Аустерлицем: «Кутузов слегка улыбнулся, в то время как тяжело ступая, он опускал ногу с подножки, точно как будто и не было этих двух тысяч людей, которые не дыша смотрели на него». Пьер, открытый душой всем и каждому, совершенно равнодушен к производимому им впечатлению. На петербургском балу он двигается «так же небрежно <…> как бы он шел по толпе базара». А вот описание той встречи княжны Марьи с Ростовым, которая завершилась их сближением: «При первом взгляде на лицо Николая она увидела, что он приехал только для того, чтоб исполнить долг учтивости, и решилась твердо держаться в том самом тоне, в каком он обратился к ней». Но княжна не сумела сохранить верность избранной позе: «В самую последнюю минуту, в то время как он поднялся, она так устала говорить о том, до чего ей не было дела <…> что она в припадке рассеянности, устремив вперед себя свои лучистые глаза, сидела неподвижно, не замечая, что он поднялся». Результатом этой рассеянности, неумения осуществить собственную установку и стало объяснение с ней Николая, принесшее обоим счастье.
Поведение безыскусственно простое, свободное как от ритуальной предначертанности, так и от жизнетворческих поз в духе романтизма, осознавалось и изображалось в качестве некой нормы не только Л.Н. Толстым, но и многими другими писателями XIX-XX вв. Непреднамеренность и естественность высказываний и жестов персонажей послепушкинской литературы не привели к образованию нового поведенческого стереотипа (в отличие от того, что произошло с сентименталистской меланхоличностью и театральной зрелищностью романтизма): герои, свободные от рассудочных установок и программ, проявляют себя каждый раз по-новому, представая в качестве ярких индивидуальностей, будь то князь Мышкин у Ф.М. Достоевского, сестры Прозоровы у АП. Чехова, Оля Мещерская в «Легком дыхании» И.А. Бунина или Настена в повести В.Г. Распутина «Живи и помни».
Рубеж XIX-XX вв. и первые десятилетия нашего столетия были отмечены новым брожением в поведенческой сфере, что дало о себе знать прежде всего в литературной жизни. По словам Ю.М. Лотмана, «в биографиях символистов, «жизнестроительстве», «театре одного актера», «театре жизни» и других явлениях культуры» воскресает «поэтика поведения» в духе романтизма. Об этом свидетельствуют и мистико-пророческая устремленность младших символистов, и ирония над ней в «Балаганчике» Блока, и позже прозвучавший призыв поэта закрывать лицо «железной маской» («Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух…», 1916), и «маскарадное» начало в театре Вс. Э. Мейерхольда, и величественные роли спасителей человечества в ранних произведениях М. Горького (Данко в рассказе «Старуха Изергиль») и В. Маяковского (трагедия «Владимир Маяковский»). Поэты начала века, отмечал Б. Пастернак в «Охранной грамоте», нередко становились в позы, творя самих себя, и «зрелищное понимание биографии» со временем стало пахнуть кровью. В ахматовской «Поэме без героя» символистская и околосимволистская среда предреволюционных лет предстала в образе трагического маскарада: в мире «краснобаев и лжепророков» и «маскарадной болтовни», беспечной, пряной, бесстыдной, форма поведение персонаж портрет
И беснуется и не хочет
Узнавать себя человек.
«С детства ряженых я боялась» -- эти слова из поэмы А. Ахматовой свидетельствуют об ее внутренней отчужденности от салонно-кружковой атмосферы начала века и причастности той поведенческой ориентации, которая ранее была столь ярко выражена в творчестве Пушкина, Толстого и других писателей-классиков XIX в.
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!
Приходите учиться -
из гостиной батистовая,
чинная чиновница ангельской лиги.
И которая губы спокойно перелистывает,
как кухарка страницы поваренной книги.
буду от мяса бешеный
И, как небо, меняя тона -
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а - облако в штанах!»
в этих строках поэмы «Облако в штанах» В. Маяковского тоже есть некие признаки отчуждённости, вызова общественности, осуждение «чинной чиновницы».
Поэтике жизнестроительства не чужды и образы «положительных героев» советской литературы («Чапаев» Д.А Фурманова, «Железный поток» А.С. Серафимовича, «Как закалялась сталь» Н.А. Островского). Вместе с тем в литературе советского периода (а также в творчестве писателей русского зарубежья) осталась сохранной «пушкинско-толстовская» поведенческая традиция. Благородной безыскусственностью отмечены слова и движения персонажей прозы И.С. Шмелева и Б.К. Зайцева, «Белой гвардии» и «Дней Турбиных» М.А Булгакова, произведений М.М. Пришвина и Б.Л. Пришвина, создателей «деревенской прозы».
В 21 же веке, в эпоху, когда постмодернизм идёт рука об руку с «новым русским реализмом», формы поведения персонажей стали играть чуть ли не решающую роль. Порой не на самом действии писатели строят свои произведения, но на оттенках, полутонах отношения к тому или иному действию. Для примера можно взять роман «Санькя» Захара Прилепина, где образ героя выписан с минимальным использованием портрета, но максимум внимания уделено порывистому и резкому поведению Саньки, порой надуманному, которое он примеряет на себя для того, чтобы влиться в жестокую среду партии нацболов.
2. ФОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ В ДРАМАТИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ
Персонажи драмы обнаруживают себя в поведении (прежде всего в произносимых словах) более рельефно, чем персонажи произведений эпических. И это закономерно. Во-первых, драматическая форма располагает действующих лиц к «многоговорению». Во-вторых, слова героев драмы ориентированы на широкое пространство сцены и зрительного зала, так что речь воспринимается как обращенная непосредственно к публике и потенциально громкая. «Театр требует... преувеличенных широких линий как в голосе, декламации, так и в жестах» (98, 679), -- писал Н. Буало. А Д. Дидро замечал, что «нельзя быть драматургом, не обладая красноречием» (52, 604). Поведение персонажей драмы отмечено активностью, броскостью, эффектностью. Оно, говоря иначе, театрально. Театральность -- это ведение речи и жестикуляция, осуществляемые в расчете на публичный, массовый эффект. Она является антиподом камерности и невыразительности форм действования. Исполненное театральности поведение становится в драме важнейшим предметом изображения. Драматическое действие часто вершится при активном участии широкого круга людей. Таковы многие сцены шекспировских пьес (особенно финальные), кульминации «Ревизора» Гоголя и «Грозы» Островского, опорные эпизоды «Оптимистической трагедии» Вишневского. На зрителя особенно сильно действуют эпизоды, где на сцене есть публика: изображение собраний, митингов, массовых представлений и т. п. Оставляют яркое впечатление и сценические эпизоды, показывающие немногих людей, если их поведение открыто, не заторможено, эффектно. «Как в театре разыграл», -- комментирует Бубнов («На дне» Горького) исступленную тираду отчаявшегося Клеща о правде, который неожиданным и резким вторжением в общий разговор придал ему собственно театральный характер. Вместе с тем драматурги (в особенности сторонники реалистического искусства) испытывают потребность выйти за рамки театральности: воссоздать человеческое поведение во всем его богатстве и многообразии, запечатлев и частную, домашнюю, интимную жизнь, где люди выражают себя в слове и жесте скупо и непритязательно. При этом речь героев, которая по логике изображаемого не должна бы быть эффектной и яркой, подается в драмах и спектаклях как пространная, полноголосая, гиперболически выразительная. Здесь сказывается некоторая ограниченность возможностей драмы: драматурги (как и актеры на сцене) вынуждены возводить «нетеатральное в жизни» в ранг «театрального в искусстве». В широком смысле любое произведение искусства условно, т. е. не тождественно реальной жизни. Вместе с тем термином условность (в узком смысле) обозначаются способы воспроизведения жизни, при которых подчеркиваются несоответствие и даже контраст между формами, изображенного и формами самой реальности. В этом отношении художественные условности противостоят «правдоподобию», или «жизнеподобию». «Все должно быть по существу жизненно, не обязательно все должно быть жизнеподобно, -- писал Фадеев. -- Среди многих форм может быть и форма условная» (96, 662) (т. е. «нежизнеподоб- ная». -- В. X.). В драматических произведениях, где поведение героев театрализуется, условности находят особенно широкое применение. О неминуемом отходе драмы от жизнеподо- бия говорилось неоднократно. Так, Пушкин утверждал, что «изо всех родов сочинений самые неправдоподобные сочинения драматические» (79, 266), а Золя называл драму и театр «цитаделью всего условного» (61, 350). Персонажи драм часто высказываются не потому, что это нужно им по ходу действия, а в силу того, что автору требуется что-то объяснить читателям и зрителям, произвести на них определенное впечатление. Так, в драматические произведения иногда вводятся дополнительные персонажи, которые либо сами повествуют о том, что не показывается на сцене (вестники в античных пьесах), либо, становясь собеседниками главных действующих лиц, побуждают их рассказывать о происшедшем (хоры и их корифеи в античных трагедиях; наперсницы и слуги в комедиях античности, Возрождения, классицизма).
В так называемых эпических драмах актеры-персонажи время от времени обращаются к зрителям, «выходят из роли» и как бы со стороны сообщают о происходящем. Данью условности является, далее, насыщенность речи в драме сентенциями, афоризмами, рассуждениями по поводу происходящего. Условны и монологи, произносимые героями в одиночестве. Такие монологи являют собой не собственно речевые действия, а чисто сценический прием вынесения наружу речи внутренней; их немало как в античных трагедиях, так и в драматургии нового времени. Еще более условны реплики «в сторону», которые как бы не существуют для других находящихся на сцене персонажей, но хорошо слышны зрителям. Было бы неправильно, конечно, «закреплять» театрализующие гиперболы за одним лишь драматическим родом литературы. Аналогичные явления характерны для классических эпопей и авантюрных романов, если же говорить о классике XIX в. -- для произведений Достоевского. Однако именно в драме условность речевого самораскрытия героев становится ведущей художественной тенденцией. Автор драмы, ставя своего рода эксперимент, показывает, как высказывался бы человек, если бы в произносимых словах он выражал свои умонастроения с максимальной полнотой и яркостью. Естественно, что драматические диалоги и монологи оказываются куда более пространными и эффектными, чем те реплики, которые могли бы быть произнесены в аналогичном жизненном положении. В результате речь в драме нередко обретает сходство с речью художественно-лирической либо ораторской: герои драматических произведений склонны изъясняться как импровизаторы -- поэты или искушенные ораторы. Поэтому отчасти прав был Гегель, рассматривая драму как синтез эпического начала (событийность) и лирического (речевая экспрессия). От античности и до эпохи романтизма -- от Эсхила и Софокла до Шиллера и Гюго -- драматические произведения в подавляющем большинстве случаев тяготели к театрализации резкой и демонстративной. JI. Толстой упрекал Шекспира за обилие гипербол, из-за чего будто бы «нарушается возможность художественного впечатления». С первых же слов, -- писал он о трагедии «Король Лир», -- видно преувеличение: преувеличение событий, преувеличение чувств и преувеличение выражений» (89, 252). В оценке творчества Шекспира Л. Толстой был неправ, но мысль о приверженности великого английского драматурга к театрализующим гиперболам совершенно справедлива. Сказанное о «Короле Лире» с не меньшим основанием можно отнести к античным комедиям и трагедиям, драматическим произведениям классицизма, трагедиям Шиллера и т. п. В XIX--XX вв., когда в литературе возобладало стремление к житейской достоверности художественных картин, присущие драме условности стали сводиться к минимуму. У истоков этого явления так называемая «мещанская драма» XVIII в., создателями и теоретиками которой были Дидро и Лессинг. Произведения крупнейших русских драматургов XIX в. и начала XX столетия -- А. Островского, Чехова и Горького -- отличаются достоверностью воссоздаваемых жизненных форм. Но и при установке драматургов на правдоподобие изображаемого сюжетные, психологические и собственно речевые гиперболы сохранялись. Даже в драматургии Чехова, явившей собой максимальный предел «жизнеподобия», театрализующие условности дали о себе знать. Всмотримся в заключительную сцену «Трех сестер». Одна молодая женщина десять-пятнадцать минут назад рассталась с любимым человеком, вероятно, навсегда. Другая пять минут назад узнала о смерти своего жениха. И вот они, вместе со старшей, третьей сестрой подводят нравственно-философские итоги происшедшему, размышляя под звуки военного марша об участи своего поколения, о будущем человечества. Вряд ли можно представить себе это происшедшим в реальности. Но неправдоподобия финала «Трех сестер» мы не замечаем, так как привыкли, что драма ощутимо видоизменяет формы жизнедеятельности людей.
3. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОРТРЕТА И ФОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЖА
На мой взгляд, неполно и неточно будет говорить о формах поведения персонажей без вышеупомянутого портрета, ведь эти две категории тесно переплетаются друг с другом. Детали портрета в совокупности с невербальным инструментарием могут дать полное представление об образе.
В эпических произведениях различают экспозиционный и динамический портреты. Экспозиционный портрет - это подробное перечисление деталей внешности, обычно представленное при первом появлении героя. Часто повествователь обращает внимание на черты, выдающие в герое представителя какого-либо социального слоя.
Более сложная разновидность экспозиционного портрета - психологический , где особенное внимание автора сосредоточено деталях внешности героя, раскрывающих его характер.
О динамическом портрете говорят, когда в произведении нет подробного описания внешности героя, она складывается из отдельных деталей, «разбросанных» по всему тексту. Детали эти нередко меняются (например, выражение лица), что позволяет говорить о раскрытии характера. Такие портреты часто встречаются в творчестве Толстого, как уже говорилось выше. Вместо подробного перечисления черт внешности писатель использует яркие детали, которые «сопровождают» персонажа на протяжении всего произведения. Это «лучистые глаза» княжны Марьи, наивно-детская улыбка Пьера, античные плечи Элен. Одна и та же деталь может наполняться различным содержанием, в зависимости от чувств, которые испытывает персонаж. Губка с усиками маленькой княгини придаёт её хорошенькому личику особенное обаяние, когда она находится в светском обществе. Во время ее размолвки с князем Андреем эта же губка принимает «зверское, беличье выраженье».
Динамический портрет появляется из-за изменения в ходе сюжета социального статуса героя. Таковы портреты Пугачева в повести Пушкина «Капитанская дочка».
Поведение персонажа - одна из разновидностей динамического портрета. Разумеется, какие-то действия людей обусловлены традициями, принятыми в том или ином обществе. Позы, жесты, мимика приобретают семиотический характер, становясь знаками. Но в рамках этих традиций человек может вести себя весьма по-разному. Например, Печорин при встрече с Максимом Максимычем не может не поздороваться со старым приятелем, но делает он это неохотно: «довольно холодно, хотя с приветливой улыбкой, протянул ему руку». Когда штабс-капитан напоминает о Бэле, «Печорин чуть-чуть побледнел и отвернулся...», воспоминание ему неприятно. Игнорирование или намеренное нарушение традиций помогает понять состояние персонажа в данный момент или его жизненную позицию в целом.
Нарушение норм поведения часто происходит, когда общаются персонажи, принадлежащие к разным культурам, когда один и тот же жест, действие может восприниматься по-разному. Из-за этого могут происходить сложности в общении. Например, дворянин Оленин, вращавшийся в светском обществе, (повесть Л.Н. Толстого «Казаки»), живя на Кавказе, не знает, как ему подойти к понравившейся ему казачке, как заговорить с ней, чтобы ее случайно не обидеть. При довольно длительном контакте двух культур в каждой из них возникают стереотип человека другой культуры, а также стереотип отношений между людьми данных культур. Если человек подходит под этот стереотип, как Белецкий (повесть Толстого «Казаки»), то ему очень легко войти в новую среду. Но если этот человек другого склада, как склонный к рефлексии Оленин, то ему будет очень непросто: его поведение абсолютно непонятно казакам, а потому они избегают его, опасаясь последствий дружбы с ним. И только старый казак дядя Ерошка, который также выбивается из своей среды, находит с Олениным общий язык, им интересно общаться.
Выделяются характерные позы, жесты персонажа, раскрывающие его характер, отношение к другим героям. Например, быстрая решительная походка старика Болконского говорит о твердости его характера. Однако поведение персонажа может сильно изменяться в зависимости от жизненной ситуации: «Положим, например, существует канцелярия, не здесь, а в тридевятом государстве, а в канцелярии, положим, существует правитель канцелярии. Прошу смотреть на него, когда он сидит среди своих подчиненных, - да просто от страха и слова не выговоришь! гордость и благородство, и уж чего не выражает лицо его? просто бери кисть, да и рисуй: Прометей, решительный Прометей! Высматривает орлом, выступает плавно, мерно. Тот же самый орел, как только вышел из комнаты и приближается к кабинету своего начальника, куропаткой такой спешит с бумагами под мышкой, что мочи нет. В обществе и на вечеринке, будь все небольшого чина, Прометей так и останется Прометеем, а чуть немного повыше его, с Прометеем сделается такое превращение, какого и Овидий не выдумает: муха, меньше даже мухи, уничтожился в песчинку! "Да это не Иван Петрович, - говоришь, глядя на него. - Иван Петрович выше ростом, а этот и низенький и худенький; тот говорит громко, басит и никогда не смеется, а этот черт знает что: пищит птицей и все смеется". Подходишь ближе, глядишь - точно Иван Петрович! "Эхе-хе", - думаешь себе...».
Несоответствие слов персонажа и его поступков помогает раскрыть истинное его состояние, отношение к событиям, другим героям. Например, первом неоконченном рассказе Л.Н. Толстого «История вчерашнего дня» герой понимает, что ему пора уходить, но делать этого не хочет.
В рассказе А.И. Куприна «Гранатовый браслет» (1911) подробно описана внешность пяти персонажей: Веры, Анны, ее мужа, генерала Аносова, Желткова. Сестры противопоставлены друг другу, в том числе и с помощью портретов. «Старшая, Вера, пошла в мать красавицу англичанку, своей высокой гибкой фигурой, нежным, но холодным и гордым лицом, прекрасными, хотя и довольно большими руками и той очаровательной покатостью плеч, какую можно видеть на старинных миниатюрах. Младшая - Анна, - наоборот унаследовала монгольскую кровь отца <…> Она была на полголовы ниже сестры, несколько широкая в плечах, живая и легкомысленная насмешница. Лицо ее сильно монгольского типа с довольно заметными скулами, с узенькими глазами <…>, с надменным выражением в маленьком, чувственном рте, особенно в слегка выдвинутой вперед полной нижней губе, - лицо это, однако, пленяло какой-то неуловимой и непонятной прелестью, которая заключалась, может быть, в пикантной задорно-кокетливой мимике. Ее грациозная некрасивость возбуждала и привлекала внимание мужчин гораздо чаще и сильнее, чем аристократическая красота ее сестры». «У нее были редкой красоты спина, грудь и плечи. Отправляясь на большие балы, она обнажалась гораздо больше пределов, дозволяемых приличием и модой, но говорили, что под низким декольте у нее всегда была надета власяница. Вера же была строго проста, со всеми холодно и немного свысока любезна, независима и царственно спокойна». Холодность, аристократизм Веры и восточный темперамент Анны - лейтмотивы. Семейная жизнь сестер совершенно разная. Вера любит и ценит своего мужа, является преданным его другом, а Анну муж раздражает, она флиртует на его глазах со многими мужчинами, хотя никогда не изменяет ему. В ней причудливо сочетаются свободное поведение (она «посещала за границей сомнительные кафе») и набожность, что предельно заостряется в деталях одежды: неприличное декольте и власяница.
И отношение окружающих к сестрам разное. Вокруг Анны («стрекозы-егозы», по словам генерала) всегда полно мужчин: им легко и весело с ней. Вера («леди») не пользуется таким успехом, но именно она может вызвать к себе настоящую любовь, о которой «грезят женщины и на которую больше не способны мужчины». Аристократичная Вера представляется романтичному Желткову богиней, в которой «как будто бы воплотилась вся красота земли»: он благоговейно хранит вещи, забытые ею, умирает со словами «да святится имя твое». Анну «безумно» любит муж, но его назойливое ухаживание за ней выглядит жалко, комично. И сам Густав Иванович неприятный, ограниченный человек, что подчеркнуто в его отталкивающей внешности. Когда он смеялся, «его худое, гладко обтянутое блестящей кожей лицо, с прилизанными жидкими, светлыми волосами, с ввалившимися глазными орбитами, походило на череп, обнажавший в смехе прескверные зубы».
Внешность генерала Аносова выдает в нем настоящего офицера царской армии, участника многих боев, героя, загрубевшего на службе, но сохранившего доброту и отзывчивость: «У него было большое, грубое, красное лицо с мясистым носом и с тем добродушно-величавым, чуть-чуть презрительным выражением в прищуренных глазах, расположенных лучистыми, припухлыми полукругами, какое свойственно мужественным и простым людям, видавшим часто и близко перед своими глазами опасность и смерть». Занимаемая им должность коменданта, вероятно, кажется ему чем-то средним между военной и гражданской службой. Может быть, поэтому он «ходил без оружия, в старомодном сюртуке, в фуражке с большими полями и с громадным прямым козырьком».
История его неудачной семейной жизни занимает меньше страницы, но при этом дважды (!) дан портрет его жены, а имени ее читатель так и не узнает. Аносов считает, что ее внешность во многом подтолкнула его к женитьбе: «около меня свежая девчонка. Дышит - грудь так и ходит под кофточкой. Опустит ресницы, длинные-длинные такие, и вся вдруг вспыхнет. И кожа на щеках нежная, шейка белая такая, невинная, и руки мяконькие, тепленькие». По его мнению, так выглядеть может только невинная девушка, он не догадывался, что скрывается за этим. После свадьбы она преображается: «ходит в затрепанном капоте, туфли на босу ногу, волосенки жиденькие, нечесаные, в папильотках, с денщиками собачится, как кухарка, с молодыми офицерами ломается, сюсюкает, взвизгивает, закатывает глаза». И теперь Аносов видит ее «всегда лживые-лживые» глаза. Однако, в плотнейшем соседстве здесь мы видим и форму поведения, невербальные признаки: грудь, которая «ходит под кофточкой», то, как она «вспыхивает», «с денщиками собачится» - все эти знаки призваны объяснить читателю характер героини с помощью скрытых поведенческих кодов.
В портрете Желткова отражены высокая одухотворенность, способность к сильным, глубоким чувствам и одновременно умение понять другого человека, поставить его счастье выше собственного. Повествователь не комментирует ту или иную черту, предоставляя возможность читателю самостоятельно решать, о чем она свидетельствует. Его бледность, худоба объясняются тяжелыми жизненными условиями, а также постоянными страданиями (он семь лет безнадежно влюблен в Веру). «Девичье лицо» и «детский подбородок» говорят о его нежности, однако подбородок еще и «упрямый» - не намекает ли он на то упорство, с которым Желтков всюду следует за Верой, пишет ей. После разговора с Верой по телефону он окончательно убеждается, что все его усилия тщетны и самоубийство - единственный выход. «Глаза его блестели и были глубоки, как будто наполнены непролитыми слезами», - замечает повествователь. Однако наибольшее внимание уделено жестам Желткова. Он совершенно растерялся, увидев у себя мужа и брата Веры, его «нервные пальцы <…> забегали по борту коричневого короткого пиджачка, застегивая и расстегивая пуговицы». Он далеко не сразу находит, что сказать, неловко кланяется. Но, услышав от Тугановского, что тот собирался обратиться в полицию, Желтков преображается, теперь он видит свое нравственное превосходство перед Тугановским и чувствует себя свободно: «Он положил руки в карманы, сел удобно в угол дивана, достал портсигар и спички и закурил». Ему нелегко говорить Шеину, что он давно любит Веру: «Желтков в продолжение нескольких секунд ловил ртом воздух, точно задыхаясь, и вдруг покатился, как с обрыва. Говорил он одними челюстями, губы у него были белые и не двигались, как у мертвого». Сравнение с мертвым значимо, оно предвосхищает слова Желткова о самоубийстве. А когда он лежал в гробу, «губы его улыбались блаженно и безмятежно, как будто бы он перед расставанием с жизнью узнал какую-то глубокую и сладкую тайну, разрешившую всю его человеческую жизнь». Важно помнить, что это точка зрения Веры, которая считает Желткова странным человеком. Может быть, она думает, что он не мог умереть, не поняв, что такая любовь послана ему в награду, и не догадавшись, что он ей небезразличен. Неслучайно во время исполнения сонаты Бетховена Вера «слышит» его: «мы с тобой любили друг друга только одно мгновение, но навеки».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обладая знанием о формах поведения персонажей в эпическом и драматическом произведении, писатель сможет наиболее достоверно и красочно изобразить окружающую его реальность. Область невербального общения всё же более относится к сфере психологических познаний, что лишний раз доказывает нам: писатель должен обладать массой навыков из самых разных областей для того, чтобы написать произведение захватывающее, умное и жизненное. Однако, образ в литературном произведении так же невозможен и без портрета. Соединяя познания об этих двух позициях, творец, при наличии таланта, сможет сотворить вещи, которые будут близки и понятны людям за счёт их точности и достоверности. Примеры таких произведений приведены выше.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Хализев В.Е. Теория литературы. Москва: Academia, 2009.
2. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. Москва: Азбука, 2015.
3. Тамарченко Н., Тюпа В., Бройтман С. Теория литературы: учебное пособие // под ред. Тамарченко Н. Москва: Academia, 2014
4. Вершинина Н., Волкова Е., Илюшин А., Мурзак И., Озеров Ю., Целкова Л., Щербакова М., Ястребов А. Введение в литературоведение: учебное пособие // под ред. Вершинина Н. Юрайт, 2016
5. Л.В. Чернец, В.Е. Хализев, С.Н. Бройтман и др Ведение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и термины: Учеб. пособие //.; Под ред. Л.В. Чернец. - М.: Высш. шк.; Академия, 1999
...Подобные документы
Создание романа Ф.М. Достоевского "Идиот". Образ князя Мышкина. Речевое поведение главного героя романа. Гендерно-маркированные особенности речевого поведения персонажей. Языковые способы выражения маскулинности и феминности в художественном тексте.
дипломная работа , добавлен 25.10.2013
Теория литературы как наука и искусство понимания. Художественное произведение как диалектическое единство содержания и формы. Проблема стиля в современном литературоведении. Своеобразие конфликта в эпических, драматических и лирических произведениях.
шпаргалка , добавлен 05.05.2009
Определение жанра сказки. Исследование архаической стадии гендерной литературы. Сопоставительный анализ народной и авторской сказки. Проблема перевода гендерных несоответствий в сказках О. Уайлда. Гендерные особенности имен кэрролловских персонажей.
курсовая работа , добавлен 01.10.2014
Персонаж и повествователь художественного текста как языковые личности. Способы представления речи персонажей. Языковые личности персонажей и повествователя в романе "Женщина французского лейтенанта". Речевые характеристики Фредерика Клегга и Миранды.
дипломная работа , добавлен 25.04.2015
История создания романа "Игрок". Особенности поведения "русских европейцев" в чужом для них обществе. Анализ сюжета, характера и поступков главного героя (человека-игрока) и других персонажей. Методическое приложение "Изучение Ф.М. Достоевского в школе".
дипломная работа , добавлен 26.10.2013
Особенности творческого пути А.Н. Апухтина, его подход к изображению персонажей. Анализ основных мотивов, тем и форм повествования в произведениях "Дневник Павлика Дольского", "Архив графини Д**", "Между смертью и жизнью". Отзывы о творчестве писателя.
дипломная работа , добавлен 31.01.2018
Исследование архаических мотивов и моделей в авторских произведениях. Проведение структурного анализа произведения. Определение и анализ архаических корней образов персонажей сказки "Конек-горбунок" П.П. Ершова. Выделение структурных единиц произведения.
курсовая работа , добавлен 17.09.2012
Исследование биографии и творческого наследия американского писателя Ф. Скотта Фицджеральда. Характеристика особенностей психологического изображения персонажей в романе "Великий Гэтсби". Художественное познание душевной жизни и поведения главных героев.
реферат , добавлен 02.03.2013
Злободневные темы, которые рассматриваются в пьесе "Дом, где разбиваются сердца" Бернарда Шоу. Анализ речевой характеристики персонажей пьесы. Идейное содержание произведения. Эволюция душевного состояния, манеры поведения и характера героев пьесы.
статья , добавлен 19.09.2017
Значение терминов "герой", "персонаж" в литературоведении. Индивидуальное, личностное измерение и характер персонажа, отражение простоты или сложности характеров. Имя как отражение внутреннего мира героя. Построение системы персонажей, их иерархия.
Психология человека до сих пор не является в полной мере объясненным явлением. Различные ученые, философы, позднее психологи уделяли внимание этому феномену, по-разному определяя роль психологического в становлении личности. Существовал также интерес к представлению о самом человеке.
Классический подход к рассмотрению данного вопроса заключается в отнесении человека к разумному, то есть, сознательному существу. Определение сознания дал Рене Декарт в XVII веке, обозначив данное понятие как наблюдение индивидом внутренних составляющих собственного внутреннего мира Декарт Р. Страсти души / Декарт Р. // Декарт Р. Сочинения в 2 т.: Пер. с лат. и франц. /Сост., ред., вступ. ст. Соколова В.В. - М.: Мысль, 1989. - Т. 1. - С. 482.. В XVIII веке Готфрид Вильгельм Лейбниц разработал концепцию «малых восприятий», где он отделил представления психики и сознания, а также пришел к выводу о существовании различных психических процессов в сознании человека. Благодаря его исследованию произошла первая структуризация психики человека. Теории Лейбница повлияли на дальнейшее развитие вопроса сознания и неосознаваемого.
Однако мыслители конца ХІХ века усомнились в разумности человека, выдвинув гипотезу о том, что разум является лишь частичкой мира и не играет особой роли в жизни индивида. Одним из первых психологов данную теорию предложил австрийский ученый Зигмунд Фрейд. Он усомнился в «разумной» природе человека.
Фрейд предположил, что в человеке гораздо более сильно природное, а не культурное или социальное начало. Ученый пришел к выводу, что сознание неотделимо от других глубинных уровней психической активности человека, и, таким образом, были выдвинуты термины «область сознательного» и «область бессознательного».
Под бессознательным Фрейд понимал «те содержания психической жизни, о наличии которых человек либо не подозревает в данный момент, либо вообще никогда не знал». Краткий словарь психоаналитических терминов / сост. Соколова Е.Е. // Фрейд З. Психология бессознательного: Сб. произведений / Сост., науч. ред., авт. вступ. Ярошевский М.Г. / Фрейд З. - М.: Просвещение, 1990. - С. 440. При этом существует два вида бессознательного: латентное, которое может в будущем перейти в разряд сознательного и потому имеющее название предсознательного, а также вытесненное, носящее наименование бессознательного. Таким образом, область бессознательного - те природные качества человека, которые недоступны его разуму. Под сознательным же понимаются качества, которые подвержены осмыслению.
Совокупность сознательного и бессознательного представляет собой сознание - высшую форму психики человека, совокупность знаний об окружающем мире.
Несколько другое мнение о бессознательном сложилось у швейцарского психиатра Карла Густава Юнга, ученика, а впоследствии основного критика Фрейда. Это составляющее сознания одинаково интересовало обоих ученых, однако понимание их данного вопроса несколько отличалось.
Юнг определяет бессознательное как «как совокупность всех психических явлений, не обладающих качеством сознания» Юнг К.Г. Инстинкт и бессознательное / Юнг К.Г. // Юнг К.Г. Очерки по психологии бессознательного. - К.: Когито-центр, 2006. - С. 146., единством «всех утраченных воспоминаний и всех элементов содержимого психики, которые еще слишком слабы, чтобы стать осознанными» Там же, С. 147.. К таким явлениям ученый относит интуицию, инстинкты. Бессознательное у Юнга делится на «личностное» ? индивидуально приобретенные и по каким-то причинам подавленные чувства и мысли индивида - и «коллективное», состоящее из повторяющихся, типичных элементов для группы людей или всего человеческого рода.
Юнг раскритиковал теорию Фрейда о главенствующей роли инстинктов, выдвинув мнение об их символической природе. Он предположил, что область бессознательного есть главенствующая часть психики. Психолог отказался от теории, согласно которой индивид полностью зависит от окружающего мира, мир лишь помогает человеку лучше себя осознать, чем пошел вопреки догмам психоанализа.
Безусловно, в дальнейшем различными учеными в области психологии и философии проводились исследования на тему сознания и его составляющих. С течением времени утвердились два основных подхода к бессознательному - лингвистический и социологический. Лингвистический подход получил особое развитие в работах французского психоаналитика Жака Лакана. Бессознательное понимается как не имеющие содержания материальные формы, развитие которых предполагает языковую структуризацию психики. Социологический подход рассматривает всякое знание как результат работы сознания. Всякое сознание направлено на другое сознание, то есть, процесс познания новой информации возникает в процессе социального диалога.
Нас интересовало фундаментальное обращение к данному вопросу «классических» ученых для лучшего понимания категорий сознательного и бессознательного. Владение данными по этой теме необходимо для более детального и успешного рассмотрения их в поведении героев новелл Э. По и В. Одоевского.
Нет оснований предполагать, что русский и американский авторы были знакомы, однако же в их произведениях мы видим элементы типологического сходства, что позволяет допустить схожесть направлений в американской и русской литературах, как выражение общего развития литературного процесса.
Как отмечает Морева Т.Ю., «некоторые темы и черты в повестях Одоевского и повестях По объясняются интересом русского и американского романтиков к одним и тем же идеям, явлениям. Одоевского и По влекло к постижению тайн человеческой психики» Черняхович Т.Ю. В.Ф. Одоевский и Э.А. По (Проблема психологизма) / Черняхович Т.Ю. // Психологизм в мировой литературе: Научное пособие / Отв. ред. Н.М. Раковская. - Одесса: Астропринт, 2001. - С. 30.. Наилучшее доказательство правоты данного высказывания кроется в самих произведениях авторов, написанных буквально одновременно.
Внутреннее развитие героя зависит от области бессознательного, низменные «инстинкты» определяют его характер. Именно такой герой интересовал В. Одоевского в его «таинственных» повестях и Э. По - в его «психологических» новеллах. Герои произведений По и Одоевского, пребывая в неразрешимом конфликте с собственным «я», пытаются охарактеризовать и понять действительность. Обращая особое внимание на такое внутреннее движение, колебание в душах героев, авторы раскрывают многогранных, но слишком зацикленных на своих душевных проблемах личностей.
Особенно ярко интерес к герою такого типа раскрывается в «таинственных» повестях Одоевского «Косморама» и «Сильфида». Эти и другие входящие в данный цикл произведения поспособствовали распространению мнения о писателе как о мистике и фантасте. Писатель проявлял интерес к произведениям мистиков средневековья и алхимии, но при этом обладал реалистическим мышлением, особым отношением к науке, которой он также себя посвящал. Фантастика, присутствующая в «таинственных» текстах Одоевского, всегда ставится под сомнение, по возможности разоблачается или же объясняется.
При рассмотрении сознательного и бессознательного в поведении героев новелл По и Одоевского следует также отметить, что сознание и бессознательное являются исключительными проявлениями человека. Всё находящееся в подсознании человека определяется общественными условиями его существования.
Новелла По «Падение дома Ашеров» дает нам наибольшее количество материала для изучения сознательных и бессознательных действий в поведении героев. Все герои (а их в данной новелле всего трое) охвачены одним чувством - страхом. По мнению Ковалева Ю.В., этот текст показывает «не страх перед жизнью или не страх перед смертью, но страх перед страхом жизни и смерти, то есть особо утонченную и смертоносную форму ужаса души» Ковалев Ю.В. Эдгар Аллан По: новеллист и поэт: монография / Ковалев Ю.В. - Л.: Худ-ная лит-ра, 1984. - С. 181..
По создает образ человека нездоровой впечатлительности, нестойкого духовного склада и изощренного интеллекта. Нездоровая заинтересованность на себе и своих внутренних переживаниях, одновременно и сознательный и бессознательный отказ от жизни в обществе привели обоих представителей семьи Ашеров к гибели.
Как и все герои По, Родерик Ашер - высокообразованный, увлекающийся искусством и живописью человек. Его интересует философия, а в особенности вопрос о соотношении материи и сознания. Писатель не зря столь подробно характеризует любимые книги героя. Таким образом, он подчеркивает, с одной стороны, высокую степень образованности героя, а с другой - намекает на то, что мрачность такой литературы не могла не повлиять на его психику.
Дом Ашеров - некий отдельный мир, где всё живет по своим правилам. Почти незаметная трещина на фасаде дома, однако, сыгравшая роковую роль в конце действия, сухие полумертвые деревья, темное озеро, серость и угрюмость дома - всё это соответствует душевному состоянию героев. Даже название книги, которую будет читать рассказчик своему другу, как нельзя лучше описывает происходящее - «Безумная печаль».
Рассказчик был необходим По не только для того, чтобы пересказывать происходящие события с потомками старинного рода, создать иллюзию реальности происходящего, но и для того, чтобы дать собственную эмоциональную оценку действию. Здесь доминирует чувство безнадежной мрачности, тревоги и отчаяния. Если рассказчика можно представить как олицетворение нравственно и психологически здорового человека, то другие герои являют собой ярко выраженное отклонение от «нормы». Но рассказчик здесь является и повествователем истории трагедии старинного рода, и героем, попавшим в центр событий, и потому можно говорить о том, что в нем (рассказчике) «уживаются» и норма, и отклонение. Повествование приобретает характер самонаблюдения и запечатления происходящих событий.
К сознательным действиям относятся такие, которые человек обдумывает перед выполнением, в то время как над бессознательным поведением он не властен. В поведении Ашера было нечто «сбивчивое», он слишком тревожен. Его тревожность на подсознательном уровне оказалась настолько сильна, что перешла на новый уровень - уровень сознания. Особенно ярко это продемонстрировано в моменте чтения рассказчиком книги Каннинга «Безумная печаль», когда действие в книге в искаженном виде переносится в реальность.
Бессознательным желанием избавиться от своей болезни, освободиться от греха, стало захоронение родной сестры. Ашер знал о том, что леди Мэдилейн еще жива, он «слышал, как она впервые еле заметно пошевелилась в гробу» По Э.А. Падение дома Ашеров / По Э.А. // По Э.А. Собр. соч. в четырех томах. Проза. Перев. с англ. / Сост. Бэлзы С.И.; Оф. Бажанова Ю. - М.: Пресса, 1993. - Т. 2. - С. 63. В дальнейшем все ссылки на тексты Э.А. По приводятся по этому изданию., но сознательно пошел на ужасный поступок - уничтожение сестры-двойника, чтобы таким образом избавиться от раздвоения личности. Но погребение сестры заживо не спасло героя, а повлекло и его собственную гибель.
Мотив раздвоения личности является основным в данной новелле, однако он достигает своего апогея в новелле «Вильям Вильсон», где По мастерски прослеживает постепенное духовное падение человека. Здесь степень раздвоения в психике человека настолько высока и очевидна, что в одном характере не могут уместиться два сознания. Каждое сознание требует для себя физического существования, потому можно говорить о двух героях, наделенных одинаковыми внешними данными, именами и схожими чертами характера.
Повествование в этом произведении построено в виде «чистого» монолога, который, как отмечает Фащенко В.В., воссоздает «драматизм психического состояния персонажа» Фащенко В.В. Из поэтики характеротворения / Фащенко В.В. // Фащенко В.В. Характеры и ситуации. - М.: Советский писатель, 1982. - С. 236.. Рассказчик, сознание которого раздвоено, вспоминает свою жизнь, в частности, детство, и благодаря этим воспоминаниям о школьной жизни, друзьях и родственниках приобретают ясность возникающие с течением времени особенности характера героя, которые в будущем приведут его к череде неудач.
Вильям Вильсон, главный герой одноименной новеллы, так же, как и Родерик Ашер, предрасположен к расстройствам психики. Об этом говорит он сам, начиная повествование о происходивших с ним несчастьях: «Я принадлежу к роду, который во все времена отличался пылкостью нрава и силой воображения» (с. 93).
Повествование в новелле основано на воспоминаниях героя о своей жизни, при чем, герой сознательно не хочет говорить о последних годах жизни, а вспоминает о более ранних событиях, которые и привели к «падению» и «позору», о которых позднее скажет герой.
Вильям Вильсон - ненастоящее имя героя, но приближенный к истинному имени псевдоним. Он скрывается от людей, которые и так знают о его тайнах, жутких поступках, но одновременно повествование новеллы - своего рода исповедь, герою необходимо излить душу. Говоря о своем падении, герой сравнивает себя с Гелиогабалом - древнеримским императором, страдавшим от психического заболевания и жившим в беззаконии и разврате.
Показателен эпиграф к новелле: «Что скажет совесть, Злой призрак на моем пути?» (с. 19), он уже дает повод думать о том, что в произведении герою предстоит борьба с самым страшным и сильным врагом - с самим собой.
Двойника Вильсона можно назвать допельгангером - темной стороной человеческой личности, противоположностью ангела-хранителя. Но нам кажется более близкой и правдоподобной мысль, что двойник является как раз «доброй» частью сознания. Сознание героя-повествователя расколото на две части: человек и совесть. Для более простого объяснения мы условились именовать рассказчика Вильямом-первым, а вторую составляющую расстроенной души героя - Вильямом-вторым.
Из рассказа Вильяма-первого мы узнаем о его детстве и времени, проведенном в школе. Именно здесь он впервые повстречал человека, во всем очень на него похожего, начиная от совпадения даты рождения и заканчивая внешностью. Вильям-второй во всем пытался подражать Вильяму-первому, иногда даже превосходил его, и это соперничество жутко раздражало героя.
Двойник Вильсона также не был здоров, но его мучило не душевное расстройство, а заболевание связок. Этот факт и сближает (наличие недуга), и разграничивает героев. Вильсон-второй не мог говорить громко, Вильсону-первому же было это доступно. Вероятно, Вильям-второй был тихим голосом раскалывающегося сознания одного героя, и не осознающий это Вильям-первый пытался «приглушить» его, изжить из себя.
Вильсон-второй всячески вмешивался в жизнь Вильяма-первого, помогая, как казалось герою, ненужными советами. Раздражало его и то, что советы эти были дельными, и «нравственным чутьем, если не талантливостью натуры и жизненной умудренностью, он… намного меня превосходил» (с. 27). Герой и его совесть могли стать друзьями, но слишком активное участие Вильяма-второго в жизни рассказчика повлекло обратную реакцию - чувство ненависти и отвращения.
Однажды пробравшись ночью в спальню к своему сопернику, Вильям Вильсон настолько был поражен внешним их сходством, что впервые испытал мистический, бессознательный страх перед ним. И именно этот страх разбудил в нем доселе дремлющий инстинкт самосохранения и вынудил покинуть стены учебного заведения, в котором он провел 5 лет жизни. Боязнь вмешательства в личную жизнь, боязнь своей совести заставили героя бежать.
Через некоторое время он попал в Итонский университет в Оксфорде. Здесь он предавался «водовороту безрассудств и легкомысленных развлечений» (отсылка к Гелиогабалу) (с. 29), свободный, как ему казалось, от строгого ангела-хранителя. Но через 3 года он явился, сохранивший сходство с внешностью Вильяма Вильсона-первого, и напомнил о себе, прошептав всего два слова: «Вильям Вильсон». Герой моментально вспоминает всё, и эти несколько слогов сразу же отразились в сознании в виде «тысячи бессвязных воспоминаний из давнего прошлого» (с. 30). Отныне Вильсон-первый постоянно испытывает страх, в котором не отдает себе отчета, он как бы исходит из самой его души.
Герой еще более ударился в разгульную жизнь. Основное место в его жизни окончательно заняли постоянное пребывание в состоянии алкогольного опьянения, полубессознательное состояние между сном и явью под его воздействием, страх перед совестью и карточные игры. Примечательно то, что играет герой полностью осознанно, мастерски обыгрывая противников, а ведь в составлении тактики необходима логичность, последовательность, доступная только сознательной личности.
Именно здесь, во время очередной игры, Вильсон-второй разоблачает его шулерство, внезапно появившись в дверях квартиры, и именно этот позор стал самым разрушительным. Вильям-второй после провала карточного выигрыша начал повсюду преследовать рассказчика, мешая воплощать в жизнь самые низкие поступки, что и дает повод судить о двойнике как о добром посланнике, строгой, но справедливой совести.
Наконец, на карнавале в Риме Вильяму Вильсону предстала возможность расквитаться со своим обидчиком, имевшем над ним таинственную власть. Он уничтожил двойника, и в этот момент испытал галлюцинацию - увидел самого себя в зеркале, умирающего в луже крови. Лишь в самой последней, предсмертной, фразе новеллы, которую произнес Вильсон-второй, уничтоженный Вильямом-первым, раскрывается истина их единства: «Ты победил, и я покоряюсь. Однако отныне ты тоже мертв - ты погиб для мира, для небес, для надежды! Мною ты был жив, а убив меня, - взгляни на этот облик, ведь это ты, - ты бесповоротно погубил самого себя!» (с. 37).
Мотив двойничества ярко представлен и в «таинственной» повести Одоевского В.Ф. «Косморама». Примечательно, что написана повесть в 1839 году, в том же году была впервые опубликована новелла По «Вильям Вильсон». У обоих авторов сны и видения играют огромную роль в становлении личности персонажей.
Исследователь творчества В.Ф. Одоевского В.Я. Сахаров утверждает, что «Причудливый фантастизм "таинственных" повестей и всем известный интерес их автора к алхимии и сочинениям средневековых мистиков иногда заставляли забыть о весьма трезвом, реалистическом мышлении Владимира Одоевского, о его всегдашней приверженности к науке, к точному знанию о мире». Сахаров В.Я. О жизни и творениях В.Ф. Одоевского / Сахаров В.Я. // Одоевский В.Ф. Сочинения в двух томах. Русские ночи. Статьи / Вступит. статья, сост. и ком. Сахарова В.Я. - М.: Худож. лит., 1981. - Т. 1. [электронный вариант].
Символичен эпиграф к повести «Косморама»: «Quidquid est in externo est etiam in interno» Одоевский В.Ф. Косморама / Одоевский В.Ф. // Одоевский В.Ф. Повести и рассказы / Вступ. статья, сост. и примеч. Немзера А. - М.: Худож. лит., 1989. - С. 195. В дальнейшем все ссылки на повести В.Ф. Одоевского приводятся по этому изданию. (Что снаружи, то и внутри (лат)). Эти слова уже настраивают на то, что речь будет идти о двух мирах, противопоставленных, но и равных друг другу. Название повести также символично. Косморама - это изображение большого пространства, организованное так, что создается иллюзия бесконечности изображаемого.
Все действующие лица до конца не понимают настоящего значения совершаемых поступков, как человек не познает бессознательного сознанием. Здесь действует теория Фрейда, показавшего, что именно бессознательное, не представленное в сознании человека и не управляемое им, определяет поведение и ход мысли человека.
Главный герой - Владимир - в пятилетнем возрасте получает в подарок от доктора Бина космораму, и этот подарок полностью изменит его жизнь, открыв дверь в новый, отличный от реального, мир. Этот мир позволял увидеть будущее.
Для передачи психологической раздвоенности героев Одоевским были введены персонажи-двойники, и, в частности, двойник доктора Бина пытался предостеречь маленького Вову от трагедии в будущем, говоря об огромной ответственности, возложенной на него. София - племянница, явится двойником Элизы, и ее чистая душа примет на себя смерть графини.
По ходу повествования Владимир старается всегда руководствоваться здравым смыслом, поступать осознанно, однако иногда его посещают различные видения. В дальнейшем эти видения происходят в реальной жизни (белокурый человек - гусар Поль; прекрасная женщина в космораме - встреча с Элизой; Софья в виде белого облака - ее смерть перед Новым годом). Сам герой воспринимает эти видения как отклонения от нормы, дар ясновидения - как болезнь, близкую к сумасшествию.
В герое происходит разлад между душой и телом, на первый план выходит бессознательное, хоть Владимир и пытается путем рефлексии, осмыслений и погружения в теории магнетизма логически объяснить свои чувства. Душа героя предчувствует опасность, и герою единственному удается спастись. Однако, в конце герой отчуждается от мира, живет в «небольшой, уединенной деревне, в глуши непроходимого леса, незнаемый никем» (с. 243), где он «похоронил себя заживо».
Другой «таинственной» повестью является «Сильфида», написанная в начале 1830-ых годов. Основной идеей данной повести является мысль о вероятности соединения подсознательного и осознаваемого, которое возможно при условии того, что человек справится со своими инстинктами и «услышит» свой разум. Как утверждает исследователь Назиров Р.Г., это произведение - «образцовая русская повесть о высоком безумии, о романтическом бегстве в болезнь от пошлости этого мира» Назиров Р.Г. Чехов против романтической традиции (К истории одного сюжета)/ Назиров Р.Г. // Назиров Р.Г. Русская классическая литература: сравнительно-исторический подход. Исследования разных лет: Сборник статей. - Уфа: РИО БашГУ, 2005. - С. 43-44..
Здесь перед нами предстает герой, постепенно сходящий с ума, но при этом его сумасшествие не нарушает целостность его сознания, а, наоборот, возвышает его. Неадекватность героя есть состояние, которое является следствием общения с духом, а именно - духом воздушной стихии Сильфидой.
Герой повести - классический романтический тип, уставший от городской суеты, уехавший в деревню, чтобы «сидеть склавши руки» да «курить трубку». Но со временем в Михаиле Платоновиче пробуждается жажда познания, он осознает, что «человека образованного развлекает самая его образованность, и душа его, по крайней мере, не каждую минуту своего существования находится в полном унижении» (с. 176).
Мир видений полностью поглощает героя, из уровня сознания он переходит на уровень бессознательный, попадая в состояние сомнамбулы. Но в сознании героя можно обнаружить и потоки видений, связанные с перерождением, переходом на новый уровень, явившимся для него стрессом, безусловно, повлиявшим на психику.
Персонаж открывает для себя мир алхимии, и здесь его сознание как бы раскрывается заново. Он бессознательно стремится к безумию, отчуждению, он отрекается от общества для того, чтобы открыть для себя новое пространство. Как уже было ранее замечено, герои «таинственных» повестей приобретают дар ясновидения, и этот дар присутствует и у главного персонажа «Сильфиды».
Михаил Платонович постигает мир бессознательно, пребывая в состоянии сомнамбулизма. Начитавшись книг по алхимии, герой решает обратить полученные знания в реальность - вызвать духа. Изменения, происходившие с перстнем в графине с водой, были заметны только ему, что говорит о постепенном расстройстве рассудка героя. Сильфида приходит к нему, показывает тайны бытия, раскрывает мир мыслей. Но эти знания доступны лишь ему. Герой погружается в себя, осознает несостоятельность мира, в котором он пребывает, видит новый, совершенный, мир, и в этом помогает ему дух воздуха: «… другой, новый, таинственный мир для меня открывается!» (с. 185).
Он осознает, что с новыми знаниями может открыть нечто ранее неведомое, сделаться «художником нового искусства», но в этом помехой оказываются друг и общество, действующие из «благих побуждений». Они «излечивают» его, и отныне Михаил Платонович - человек толпы.
Герой полностью отдался жажде познания, забыв о своих инстинктах, но такая однонаправленность может привести к истинному безумию. Истинной же реализацией всех начал человека - и творческих, и физических - может стать только синтез инстинктов и разума.
Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что сознательное и бессознательное в синтезе движут героями Э.А. По и В.Ф. Одоевского. Этот синтез изменяет поведение и саму личность. Благодаря неосознаваемым действиям человек находит себя (Михаил Платонович в «Сильфиде» Одоевского») или же, наоборот, личность деградирует, распадается, погибает (герои новелл «Вильям Вильсон» и «Падение дома Ашеров» По).
Для персонажей По большое значение имеет наследственность психических заболеваний. К тому же, высокая образованность, увлечение средневековой литературой (Родерик Ашер), нравственное падение (Вильям Вильсон) приводят к властвованию бессознательного инстинкта самосохранения и распаду личности. Но если в «Падении дома Ашеров» два сознания еще могут уместиться в одном теле, то в «Вильяме Вильсоне» процесс распада заходит настолько далеко, что для двух сознаний необходимо два существующих человек, имеющих, однако, одно имя, внешность и дату рождения.
В.Ф. Одоевский обращается к «таинственным» повестям как к средству более глубокого анализа человеческой психики. Здесь приобретается максимально полное взаимодействие инстинкта и разума в человеке. Автор наделяет своих героев даром ясновидения - способностью получать информацию извне, руководствуясь не только известных науке методов восприятия. Герой «Сильфиды» знакомится со сверхъестественной силой, которая передает ему информацию о других мирах, неизвестных остальному человечеству. Владимир из «Косморамы» может предвидеть будущее и пытается изменять его.
Все рассмотренные нами персонажи больше опираются на бессознательное поведение, сознательность же в поведении героев развита слабо. Сознательное проявляется в четких, обдуманных действиях героев (логичность поступков Владимира («Косморама», шулерство героя в новелле «Вильям Вильсон» и т.д.).
Исследование художественной мотивации поведения героев Ф.М. Достоевского в романах «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы» выполнено в настоящей работе в рамках подхода «эстетического эмотивизма» (феноменологии художественного изображения рационального и эмоционального), разработанного А.М. Булановым.
Понятия «рациональное» и «эмоциональное» уже получили в научной литературе по философии, психологии и литературоведению более или менее удовлетворительное толкование (см.: Автономова 1988; Буланов 1992, 2003; Диалектика... 1985; Долженко 2001; Ильин 2001; Мудрагей 1985; Психология эмоций... 1984; Якобсон 1998 и др.), но вот о термине «мотивация поведения» ещё долго будут спорить в социальной и психологической науках. Тем более спорно может показаться понятие «художественная мотивация» или же феномены, составляющие его содержание и объём. Не менее просто обстоит дело и с понятием «мотивация поведения (литературных) героев». Однако в наибольшей степени в обосновании нуждается понятие, вынесенное в заглавие работы: «художественная мотивация поведения героев». С целью наиболее детального определения последнего мы подойдём к описанию этого научного конструкта через характеристику его видовых элементов, т.е. по цепочке: мотивация поведения - художественная мотивация поведения героев - художественная мотивация поведения героев Ф.М. Достоевского.
Принимая во внимание концепцию «трёхуровневой организации» текстов (В.И. Иванов, Р. Лаут) автора «Преступления и наказания», можно предположить, что художественная мотивация поведения героев в романах Достоевского хотя и может быть исследована как с позиций позитивной науки, так и в терминах христианской антропологии Восточной церкви, но обусловлена она художественной феноменологией религиозной интенциональности, объемлющей материал романов и задающей векторную направленность поступкам всех действующих лиц произведений писателя. Художественная феноменология религиозной интенциональности персонажей исследуемых романов Достоевского обусловливает тип поведения героев, которое часто и сейчас определяется в терминах «болезни», «хаоса», «немотивированности» или «надрыва». Поэтому для анализа художественных мотивов поведения героев Достоевского необходим комплексный подход, базирующийся на принципах как исторической психологии, так и аксиологического литературоведения.
Приступая к анализу понятия «художественная мотивация» с целью описания закономерностей поведения литературного героя, нельзя оставить без внимания исследовательский конструкт «мотивация поведения», с тем чтобы реализовать научный подход к этому явлению и избежать упрёка, высказанного в адрес гуманитариев, например, «О вольном использовании понятий «мотив», «мотивация» литераторами, публицистами и говорить не приходится. Там любая причина поступка, исторического и экономического развития человечества, группы, личности называется мотивом. Не удивительно, что подчас исчезает сам предмет обсуждения, то есть мотив, или же высказывается предположение, что современное понятие мотива описывает не одну, а несколько реальностей, не совпадающих друг с другом...». Следует отметить, во-первых, что обозначенные выше понятия, употребляются в совершенно различных областях знания, где им приписываются специализированные коннотации, а во-вторых, что в самой психологической науке работы по обсуждаемой проблеме не содержат единого, систематизированного знания, несмотря на то, что теоретически и экспериментально мотивация наиболее исследована как психологический феномен, и именно мотивация является стержневой проблемой психологии. Так, в Психологическом словаре «мотивация» определяется как «побуждение, вызывающее активность организма и определяющее её направленность», а мотив - это «материальный или идеальный предмет, который побуждает и направляет на себя деятельность или поступок и ради которого они осуществляются». Сопоставление этих двух дефиниций, не выходящих за рамки психологического подхода к мотивации поведения, может наглядно продемонстрировать сложность разграничения этих понятий, поскольку, согласно определению, как мотивация является побуждением деятельности, так и мотив - побудителем, детерминирующим поведение. Ситуация значительно осложнится, если привести определение из Большого толкового социологического словаря, в котором мотивация - это побудитель поведения, т.е. мотив в психологическом смысле.
Несмотря на то, что понятие «мотив поступка» уже долгое время находится в поле зрения социально-психологической области знания, многие исследователи считают необходимым изучать процесс мотивации поведения личности в коррелятивной паре «мотив-мотивация», поскольку в отличие от мотивации понятие мотива имеет более узкий объём и в нём фиксируется собственно психологическое содержание, а именно - тот внутренний фон, на котором развёртывается процесс мотивации поведения в целом. В действительности, внутренним фоном процесса мотивации мотив быть не может, поскольку мотивационный процесс первичен по отношению к мотиву.
В качестве детерминирующих поведение человека в определённых условиях мотивов называются самые различные психические образования в структуре личности. Анализ специальной литературы по данному вопросу позволяет выделить следующие группы «мотивов»: представления, идеи, чувства, переживания (Л. И. Божович 1972); потребности, влечения, побуждения, склонности (X. Хекхаузен 1986); желания, хотения, привычки, мысли, чувство долга (П.А. Рудик 1965); помыслы (А.Г. Ковалев 1988); психические процессы, состояния, свойства личности (К.К. Платонов 1974); предметы внешнего мира (А.Н. Леонтьев 1975); установки (А. Маслоу 1954); условия существования (В.К. Вилюнас 1990) и мн. др.
В современной науке известно более тринадцати теорий мотивации поведения, базирующихся на разных основаниях и логически вытекающих из истории развития различных научных парадигм. Так, могут быть названы основоположники современных теорий: З. Фрейд в Австрии, М. Ах и К. Левин в Германии, И.П. Павлов и Е.Н. Соколов в России, В. Мак-Даугал в Англии, У. Джеймс и Э. Торндайк в Америке. Само это развитие, как утверждает X. Хекхаузен, приобрело такие масштабы, что любые попытки восстановить исходные обоснования и как-то разобраться в многообразии проводимых исследований наталкиваются на серьёзные трудности.
Вполне очевидно, что провести детальный анализ оснований каждой современной теории не представляется возможным. Для нашей работы значительным пояснением к существующим концепциям может считаться суждение Е.П. Ильина, согласно которому все подходы к мотивации поведения могут быть выделены в два направления. В первом «мотивация» рассматривается со структурных позиций как совокупность определённых мотивов, первичных по отношению к ней, а во втором - процессуально, как динамическое образование.
Поскольку для «человека характерна не механическая (в духе бихевиористской дихотомии S-R) последовательность его психических процессов, но иной способ организации душевной жизни, где налицо специфический характер связи между отдельными актами и состояниями, которые и ведут его к совершению действий и поступков», постольку понятие мотивации поведения «обозначает существенную особенность психических процессов человека и может (в принципе) оказаться плодотворным для её анализа и изучения, если достаточно чётко будет раскрыто, какое содержание оно выражает, с какими сторонами психической жизни человека оно связано». Решением вопроса о содержании понятия, способного служить как концептом, так и конструктом историко-литературного анализа, мы считаем концепцию, в которой мотивация понимается как «динамический процесс формирования мотива». В данной концепции мотивационный процесс первичен по отношению к мотиву. Проекция данной мотивационной теории на стереотипы процессов поведения даёт возможность совместить методики литературоведческого и историко-психологического подхода в рамках интегративной парадигмы philosophia et theologia cordis и применить её исследовательский инструментарий к анализу художественной мотивации поведения героев Ф.М. Достоевского, поскольку научный конструкт «мотивация поведения» наиболее точно фиксирует содержание и специфические особенности протекания психических процессов. Понятие «мотивация поведения» используется в нашей работе в широком и узком смыслах. В узком смысле мотивация поведения - это мотивация конкретных форм поведения литературного героя как динамический процесс формирования мотива, который может быть осознан до, в процессе или после завершения действия или же не осознан. В широком смысле под мотивацией поведения понимается процесс формирования мотивов определённых поведенческих актов героев, обусловленных совокупностью факторов и образований, которые определяются и задаются авторской интенцией.
Каждая конкретная форма поведения (действие в широком смысле) обусловливается такими психологическими образованиями, участвующими в конкретном мотивационном процессе и влияющими на принятие решения, которые получили в психологической науке название мотиваторов (мотивационных детерминант), «они при объяснении основания поступка становятся аргументами к принятию решения». Е. П. Ильин предложил выделить следующие группы мотиваторов, влияющих на формирование мотива действия в процессе мотивации: нравственный контроль, предпочтения, внешняя ситуация, собственные возможности, собственное состояние в данный момент, условия достижения цели, прогнозирование последствий своего поступка и др. Таким образом, некоторые перечисленные выше группы так называемых мотивов, как то: эмоции, идеи, помыслы могут быть отнесены к мотивационным детерминантам, или мотивационным установкам в процессе интринсивной мотивации. Учитывая индивидуальные особенности мотивации поведения героев Достоевского, мы считаем возможным и необходимым отнести художественную феноменологию рационального и эмоционального в текстах исследуемых нами романов к мотивационным детерминантам (мотиваторам) поведения героев.
Для разрешения поставленной нами задачи необходимо также учитывать и концепцию внешнего/внутреннего локуса контроля Дж. Роттера, представляющую особенности «построения» основания поступка, то есть мотива. При внутреннем локусе контроля речь идёт об убеждениях, относящихся к поступку, оценках и личностных диспозициях действующего лица. Поскольку мотивационный процесс - это всегда интринсивная мотивация, личностно обусловленный процесс (который, однако, может побуждаться и внешними факторами), постольку внутренний локус контроля личности влияет на отношение к поступку. «А отношение является двумодальным. Таким образом, построение мотива и, следовательно, мотивационный процесс может сопровождаться как положительными, так и отрицательными эмоциональными переживаниями...». В свете вышеизложенного становится понятным, почему в парадигме эстетического эмотивизма первостепенное значение в мотивации поведения героев отводится художественной феноменологии рационального и эмоционального.
В работу о художественной мотивации поведения героев Достоевского должен быть введён ещё один, традиционный для психологии, но не употребляемый в этом смысле в литературоведении, термин - «мотивировка». В литературной науке он выступает в качестве синонима понятия «мотивация». Однако применительно к текстам Достоевского это недопустимо. Мотивировка определяется как «рациональное объяснение » субъектом причин действия посредством указания на социально приемлемые для него <...> обстоятельства, побудившие к выбору данного действия (поступка). С помощью мотивировок личность иногда оправдывает свои действия и поступки, приводя их в соответствие с нормами поведения в обществе (так, через систему мотивировок, например, Раскольникова Достоевский, с одной стороны, создаёт картину мира «оторвавшегося от почвы», а с другой, через систему мотивировок героев-двойников изображает картину мира героя-идеолога и со своими личностными нормативами. Вследствие этого мотивировки-высказывания могут не совпадать с действительными мотивами поступка, даже сознательно их маскировать». Герой-идеолог, вступающий в идейный диалог с героями-носителями слова о себе и мире, часто впадает в соблазн подменить мотивы своего деяния мотивировкой-высказыванием («идеологическим словом»). Этот процесс важен для художественной мотивации поведения героев Достоевского как на уровне формы, так и на уровне содержания; при этом он может выступать в виде авторского художественного «средства» в изображении протекания мотивационного процесса. Поэтому следует, на наш взгляд, различать термины «мотивация» и «мотивировка». Ведь «говорящий человек в романе - всегда в той или иной степени идеолог , а его слова всегда идеологема . Особый язык в романе - всегда особая точка зрения на мир, претендующая на социальную значимость». Именно как идеологема слово героя-идеолога и становится предметом изображения в области рациональных мотивировок тех или иных поступков, в то время как в процессе мотивации важен «глубинный мотив» (в терминологии А.М. Буланова).
Современные учёные доказали, что несмотря на индивидуализирующий метод познания личности в истории литературой художественное творчество как форма историко-психологического знания о человеке может претендовать на некоторую объективность, т.к. художественный образ объединяет в себе как нарративное начало, так и рефлексию, приближающуюся к научному пониманию. По мысли американского психолога Г. Олпорта литературный подход к изучению личности не менее значим, чем научный, в связи с чем учёным было высказано пожелание создать научно-гуманистическую систему изучения личности. «Разворачивая картины человеческой жизни прошлого, нарратив <...> даёт пространство и для множества интерпретаций, и для неспециализированной понимающей литературной психологии», - замечает исследователь. Конечно, для каждого психолога, желающего подойти к художественному тексту с собственно психологической точки зрения и найти доказательства одной из концепций, существует возможность применить исследовательский инструментарий к поведению литературного героя и проанализировать его, ведь когда «писатель стремится раскрыть перед читателем сущность личности своего героя, его внутренний мир, его духовный облик и показывает нам отдельно (sic!?) его действия и поступки своего героя, он обязательно говорит о мотивах, которые привели его героя к действиям». Однако исследования творчества русских классиков, вообще, и Достоевского, в частности, свидетельствуют о том, что подобная убежденность в психологической однозначности действий героев не всегда оправдывается, поскольку нарратив вносит свои коррективы в изображение «внутреннего человека, а следовательно, и связующего внутренних людей события». Ярко эта мысль выражена Р. Ролланом: «Желая рассказать историю чьей-нибудь жизни, мы описываем её события. Мы думаем, что это и есть жизнь. Но это только оболочка. Жизнь - это то, что происходит внутри нас. События извне влияют на неё лишь тогда, когда они отмечены и порождены ею (именно этот процесс семиотического умножения мира находит отражение в процессе интринсивной мотивации)». Поэтому психологический подход к художественным текстам, не учитывающий закономерностей и данностей поэтической антропологии, нерелевантен для литературоведения. Причина значимости и знаковости художественной антропологии текстов литературы состоит в том, что «образцовые», классические тексты не только поддерживают культурную идентичность, но и «обучают первоосновам письменной ментальности, книжная нормативность принадлежит к сфере духовного идеала, вот почему в её определениях смешивается (кроме прочего) художественное и религиозное». И вновь следует подчеркнуть, что соотношение «психология - литература - религия» возможно «лишь в отношении эмоциональных и символических феноменов религии...», или, что то же, литературные, символические репрезентации религиозной проблематики отражаются в соотношении рационального и эмоционального.
Художественная мотивация поведения литературного героя представляет собой «содержательно наполненную форму» в структуре текста, обусловленную культурной парадигмой, психотипом определенного культурного стиля поведения и методом писателя, а также выражением психоидеологии автора - художественным стилем. Говоря о поведении литературного героя, следует иметь в виду и тот факт, что каждая культурная эпоха по-разному «открывает» человека и отражает внутренний мир личности: используя различные художественные средства, авторы по-разному изображают в пространственно-временном континууме текста мысли и чувства, намерения, личностные диспозиции и эмоционально-ценностные ориентации действующих лиц.
Современные литературоведы считают систему персонажей и события, организованные в сюжетную линию, наиболее крупными единицами художественно отраженной и преображенной реальности. Признавая формы поведения и феномены психоментальной структуры личности героя компонентами художественной предметности, учёные совершенно справедливо ставят вопрос о том, каким образом поведение (исторического) человека определённого психотипа, запечатлённые художником и отражающие эмоциональные и когнитивные процессы агента той или иной культуры, трансформируются в мире художественного текста.
Традиционно литературный герой трактуется как «серия проявлений одного лица в пределах данного текста». Персонаж обладает определёнными признаками, которые (при условии их устойчивости и повторяемости) выступают в качестве его свойств. В литературе второй половины XIX века роль этих признаков сводилась уже не к описательной и символической функции, цели создания типа, положительного или отрицательного характера, как в рационалистической поэтике классицизма, или «доминантного чувства», как в поэтике сентиментализма. Свойства персонажа выступали в литературе второй половины XIX столетия в характерологической функции индивидуализирующего подхода к внутреннему миру человека. Проявляясь в различных контекстах (контексте творчества писателя, контексте произведения), соотносясь с историческим и культурным фоном текста, персонаж выступает в произведении в функции определённой литературной роли. Поэтому при известном подходе к системе данных свойств могут быть выявлены различные формы и способы персонажеобразования (в этом смысле мы говорим о специфике поведения героев Достоевского). Суждение, высказанное исследовательницей, относится и к нашему исследованию: «Говоря о выдвижении антропоцентра «персонаж» как на уровне содержания, так и на уровне смысла текста, мы имеем в виду не только изображённую, то есть принадлежащую художественной коммуникации когнитивную самостоятельность персонажа (уровень содержания), но и самостоятельность ещё не изображённую, но уже принявшую форму авторской интенции (уровень смысла)».
В начале данной работы автор оговорился, что ведет дискуссию в рамках рациональной идеологической парадигмы. Поэтому в ра-
боте отсутствуют ссылки на воззрения проповедников иррационализма - клерикалов, ницшеанцев или фрейдистов. Но одно исключение сделано. Это наиболее, по нашему мнению, показательный пример иррациональной психологии, представленный в художественных и публицистических произведениях Ф. М. Достоевского.
Проблема самоволия как иррациональной самоцели жизнедеятельности человека является одной из основных тем творчества Достоевского - одного из самых яростных критиков европейского рационализма и «разумного эгоизма». Суть этого убеждения в том, что освобожденный от мистического мировосприятия человек склонен действовать, скорее не исходя из собственных рациональных интересов, а хотя и вопреки им, но по собственной иррациональной прихоти, придури, самоволию.
Есть простая рациональная версия происхождения этого феномена. Иррациональное поведение героев Достоевского - следствие культурного шока, вызванного осознанием невозможности удовлетворения уже осознанных рациональных потребностей. Герои Достоевского при всей своей странности - дети своего времени. Они жертвы казуса XIX века, когда человек, уже начинающий осознавать свои рациональные мотивы, столкнулся с иррациональным устройством общества, не дающего возможности для их удовлетворения. В результате - культурный шок, конфликт с реальностью, который мог выражаться в терроре народовольцев, развитии теософии, спиритизма и мистических сект, в распространении азартных игр, финансовых пирамид, неврастении и психических расстройств. Пример реакции на этот культурный шок - неадекватное с рациональной точки зрения поведение героев Достоевского и самого писателя, обернутое в привлекательную упаковку мистических, глубинно-психологических поисков и метаний, отрицающих рациональную картину мира и априори недоступные социальные ценности. Сам Достоевский, как известно, всю жизнь пытался добиться финансового благополучия, даже таким странным способом, как игра в рулетку.
Рационализация общественного сознания - обязательное условие для развития процесса рационализации организации общества. Решение этой задачи способно обеспечить формулирование рациональных целей общества, достижение целерационально- сти его социальной организации. Причем целерациональность понимается здесь не в классическом значении этого термина как «продуманное использование условий и средств для достижения поставленной цели» (Макс Вебер) . Достижение целе- рациональности в понимании автора - осознание и легитимация подлинных социальных целей индивидов и общества, обусловленных биологической природой человека и передающихся генетически от поколения к поколению.
Процесс рационализации общества представляет собой сочетание целерациональности (в авторской интерпретации) и инструментальной рациональности, предполагающей создание наиболее благоприятных социальных условий для эффективного достижения поставленных рациональных целей.
Российский ученый-социолог И. Ф. Девятко, давая классификацию представлений о практической рациональности, выделяет «по меньшей мере три радикально различные трактовки» (приводятся в сокращенном виде): Практическая рациональность означает действовать так, чтобы, выбирая наилучший способ действий из нескольких альтернативных, максимизировать свою прибыль и минимизировать убытки. Говорить об объективно рациональном, разумном поведении можно лишь тогда, когда поведение ориентировано на подлинное, предельное благо. Рационален тот, кто действует, сообразуясь с теми нормативными ограничениями, которые он согласился принять в качестве разумных...
По мнению автора, данные трактовки взаимодополняемы и могут рассматриваться как различные элементы, сумма которых создает явление социальной рациональности.
Первый из вышеприведенных вариантов трактовки практической рациональности близок к авторскому пониманию используе
мого в данной работе термина - инструментальная рациональность. Второй вариант трактовки совпадает с применяемым автором определением термина целерациональность. Третья трактовка (в приведенном в настоящей работе сокращенном варианте) также соответствует авторскому пониманию целерациональности, однако с одной поправкой. Нормативные ограничения могут восприниматься индивидом как разумные и быть рационально принимаемы только в том случае, если они создают условия для более полной реализации его внутренних мотивов. Только при этих обстоятельствах согласие индивида с ними будет соответствовать трактовке рациональности, данной в п. 1. (инструментальной рациональности). Если несоблюдение нормативных ограничений дает индивиду возможность более полно реализовать свои внутренние мотивы, принятие этих ограничений может быть только результатом манипуляции его выбором.
Целерациональность осознание индивидами своих рациональных мотивов; определение того, что достижение наиболее полной их реализа
ции является единственной рациональной целью социальной деятельности индивидов; определение задачи создания условий для наиболее полной реа
лизации внутренних мотивов всех членов общества в качестве его рациональной идеальной цели.
л
Инструментальная рациональность
нальных литературах» (6 - 9 апр. 2004 г.) / отв. ред. М.И. Никола; отв. ред. вып. А.В. Коровин. М.: МПГУ, 2004. С. 168 - 169.
10. Сидоров, А.А. Жизнь Бердслея / А.А. Сидоров // Бердслей О. Рисунки. Проза. Стихи. Афоризмы. Письма. Воспоминания и статьи о Бердслее. М.: Игра-техника, 1992. С. 267 - 280.
11. Трессидер, Дж. Словарь символов / Дж. Трессидер; пер. с англ. С. Палько. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001.
12. Уайльд, О. Избранные произведения: в 2 т. / О. Уайльд. М.: Изд-во «Республика», 1993. Т. 1.
13. Хализев, В.Е. Теория литературы / В.Е. Ха-лизев. М.: Высш.шк., 2000.
14. Швейбельман, Н.Ф. В поисках нового поэтического языка: проза французских поэтов середины XIX - начала XX веков: монография / Н.Ф. Швейбельман. Тюмень: Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 2002.
15. Beardsley, A. The Woods of Auffray / A. Beardsley Under the Hill and other essays in prose and verse. With illustration. London - N.Y.: The Bodley Head, 1904. Р. 65.
16. In Black and White. The Literary Remains of Aubrey Beardsley. Including «Under the Hill», «The Ballad of a Barber», «The Free Musicians», «Table Talk» and Other Writings in Prose and Verse / Ed.by S.Calloway and D.Colvin. London: Cypher: MIIM, 1998. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.cypherpress.com.
17. MacFall, H. Aubrey Beardsley. The man and His Work / H. MacFall. London: John Lane the Bood-ley Head Limited, 1928.
18. Shaw, H. Concise. Dictionary of Literary Term / H. Shaw. N.Y.: VcGraw-Hill, inc, 1972.
19. The Letters of Aubrey Beardsley / ed. by
H. Maas. London: Rutherford, Fairleigh Dickinson university press, 1970.
The prosaic fragment or the poem in the prose of Aubrey Beardsley
Two prosaic extracts from the books «The Celestial Love» (1897) and «The Woods of Auffray» (published in 1904) of the famous English graphic artist of the end of the XIX century Aubrey Beardsley are analyzed. Its relational independence, small volume, reprises and parallelism which create the musical rhythm allow us to refer them to the genre of the poem in the prose. The basis prosaic plot connects with the lyrical beginning.
Key words: synthesis, genre, the poem in the prose, fragment, Aubrey Beardsley.
И.Н. НЕМАЕВ (Волгоград)
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МОТИВАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ ГЕРОЕВ РОМАНА Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
В АСПЕКТЕ ФЕНОМЕНОЛОГИИ РАЦИОНАЛЬНОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
Исследуется художественная феноменология рационального и эмоционального и мотивации поведения героев Ф.М. Достоевского, что как один из немногих методологических путей дает возможность подойти к анализу эстетического феномена романа «Братья Карамазовы» с соответствующих его неоднородной природе позиций.
Ключевые слова: Достоевский, братья Карамазовы, феноменология, мотивация.
В романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» нашли отражение темы и проблемы, волновавшие автора на протяжении всего писательского пути и связующие воедино все его творчество. «В последнем романе Ф.М. Достоевский, обращаясь к высшим вопросам бытия, исследует человеческую природу человека в ее главной возможности - сохранить в себе образ и подобие Божие. Насколько деятельно участвуют в этой возможности “сущностные силы” индивида, кто более ответствен в сохранении столь удивлявшего великого Канта “нравственного закона”: ум или сердце, натура или социум? Диалектика ума и сердца развернута в романе с гениальной художественной силой, которая позволила писателю не только поставить “вечные” онтологические проблемы, во многом определить их осмысление в XX веке» .
Традиционный взгляд на проблематику романов Ф. М. Достоевского выражается в том, что в них на первый план выдвигается интеллектуальная сторона человеческой жизни, однако каждая мысль, нашедшая отражение в художественной литературе, насквозь пронизана эмоциональной стихией, оценкой и переживаниями
© Немаев И.Н., 2009
героев. Конечно, рациональное в романах не должно остаться без должного внимания, поскольку пренебрежение или сознательное отвержение одного из элементов «эмоциональное - рациональное» приводит «к поистине трагическим последствиям - возникает не просто неверная теоретическая схема, обедняющая действительность, но формируется заведомо ложное представление об универсуме и положении человека в нем» . Рассмотрим художественную мотивацию поведения героев Достоевского с точки зрения художественной феноменологии.
В романе «Братья Карамазовы» художественная мотивация поведения героев обусловливается как несубъектными формами выражения автора - жанровыми принципами, включающими черты архитектоники житийного повествования, так и субъектными - действующие лица романа изображаются как духовное единство, соборная личность. «Сердце» как эмоциональный и духовный центр личности наполняется в творчестве Достоевского широким спектром значений - от «эмоционального интеллекта» до хранилища религиозного и нравственного чувства, при этом ценность религиозного чувства заключается не в самом чувстве, а в бессознательном процессе мотивации. Значимость же мотивационного процесса состоит в его фактическом результате. Таким образом, Достоевский не смещает акценты в психологическую плоскость, а, напротив, психологический стиль «реалиста в высшем смысле» дополняется «метафизическим пространством» и, следовательно, дополнительным измерением в психоментальной структуре личности героев.
Путь Дмитрия Карамазова к воскрешению начинается с эстетических исканий, а завершается его духовным возрождением. Таким резким переходом писатель подчеркивает истинную реальность человека, скрытую в духе. В первой исповеди Митя предстает перед читателем очарованным красотой. Красота как эстетическое испытание сама по себе нейтральна. Зато она обладает властью над человеком, следовательно, может перейти эмоциональную границу и стать культом. В красоте Митя видит противоречивое состояние человека. Красота здесь лишь форма, а истинное состояние человека определяется его духовной зрелостью. Попытка най-
ти разрешение последних вопросов в эстетическом опыте человека безрезультатна. Трагедия Мити заключается в подчинении этой слепой силе. Если Иван страдает из-за заблуждений ума, то Митя испытывает страдание от соблазна страсти. В «Братьях Карамазовых» Достоевский показывает, как человек может попадать под сильнейшую власть страсти, которая и губит его. Митя ведет безобразную жизнь и одновременно обвиняет себя. В мире любви он изменяет Катерине Ивановне и одновременно мучается этой изменой; он не может отказаться от соблазнительной красоты Грушеньки и презирает свою страсть. Митя Карамазов - большой сладострастник и, одновременно, страдалец, т. к., в отличие от отца Карамазова, наслаждающегося собственной «скверной», Дмитрий ощущает в себе образ и подобие Бога. И пока это чувство бессознательно, он остается духовно мертвым. Духовная слепота приводит его в плен страсти. Он безнадежно и наивно уповает на отцовские деньги, что делает его жалким и смешным.
Идея страдания, его возвышающей и очищающей силы - одна из основных идей Достоевского. Недаром мудрый и проницательный старец Зосима становится перед Дмитрием на колени и кланяется до земли, как бы предчувствуя его будущее страдание. Герой искупает свою вину ссылкой на каторгу. Очищающая сила страдания действует на него. Он, приговоренный к каторге юридически безвинно, осознает, что духовная вина его перед убитым отцом неоспорима и именно за эту невидимую миру вину наказывает его Господь видимым образом. Сон о плачущем ребенке открывает путь к духовному воскрешению через осознание законов христианской жизни.
Для романа важен вопрос, который напрямую соотносится с Дмитрием: вменяется ли в вину и влечет ли за собой наказание то, что совершается помимо личной воли, по закону «совиновности»? К системе мотиваторов поведения Дмитрия прибавляется еще один, который на языке пневматологии может быть назван «совестной мукой». Только после этого герою откроется глубинный смысл и причины поступков, потрясшие его и подтолкнувшие к преодолению рассудочного и волевого «ноуменального» колебания и вступлению в «войну Бога против дьяво-
ла». Действие совестной муки на душу и поступки Дмитрия заключается в следующем: «Человек, вооруженный совестной “мукой” впервые - может быть просто потрясен и подавлен тем зрелищем сложноутонченной мотивации и динамики каждого отдельного поступка, которое ему предстает в нем самом. Он вдруг убедится, что он в известной степени желал того и втайне готовил то, чего он явно опасался; что он в известном смысле не хотел того, о чем мечтал <...> Это движение внутрь и вглубь, к сокровенным мотивам, мало заметным деталям, к скрытым остаткам страстей в самом себе - в высшей степени плодотворно, оно научает человека... зоркому созерцанию греха и настоящему, неутолимому религиозно-нравственному самоочищению» . Здесь очень важно обратить внимание в этом контексте на то, что после суда Дмитрий заболевает нервной лихорадкой.
По сути именно Дмитрий является героем, сознательно приносящим себя в жертву, сознательно идущим по пути искупления своего греха и греха своих братьев. Художественная мотивация поведения Дмитрия Карамазова обусловлена борьбой между греховными стремлениями, «жаждой жизни» и стремлением найти свой духовный путь, путь к преображению души. К концу романа эта борьба разрешается тем, что Дмитрий вступает на путь праведничества, духовно воскресает. Он жертвенная личность. Художественная мотивация поведения Дмитрия отражает одно из основных положений «историософии» Достоевского, согласно которой ход мировой истории - это борьба двух начал в человеческом мире и отдельной личности, над которой довлеет свобода выбора. С другой стороны, это доказывает единственную реальность - в Боге, во Христе. Именно это открывается Дмитрию Карамазову, а его «хождение по мукам» завершается обретением христианского сознания.
Иван Карамазов - герой трагический, метафизик этического толка. Нужно обратить внимание на то обстоятельство, что в поведении Ивана находит отражение сформулированный Гегелем принцип «претворение сердца в действительность». Принцип этот сводится к следующему: претворяя «закон своего сердца» в действительность, субъект не осознает более, что воз-
никшая из этого форма бытия является уже «общей мощью», для которой закон «этого сердца» безразличен и не является более действительным «для-себя-быти-ем» .
В исследуемом нами романе Достоевский, оказавшийся перед той же дилеммой, что и восточнохристианское богословие (как согласовать всемогущество Бога и личную ответственность человека?), решает проблему метафизики человеческой воли путем совмещения антропо- и хрис-тоцентрической концепций мира. Поэтому причина духовной болезни Ивана в другом: он, оставляя за собой право на своеволие, не может взять на себя ответственность за зло мира и стать свободным в религиозном смысле этого слова, т. е. ответственным за свои действия и за все: «...знай, что воистину всякий пред всеми и за все виноват». Размыкание границ самости по отношению к ближнему, для которого «закрыто» сердце, и опыт деятельной любви неизвестны Ивану. Однако то страдание, которое заставляет его «отрешаться» от мира и прятаться за свой «эвклидовский ум», будто бы не способный познать смысл мироздания, обнажает в нем наличие «чувства другого». Неспособность принять ответственность за «все» в этом мире (включая и страдание детей, столь поражающее ум и чувства героя) мучит его сердце и заставляет рассудок цепляться за логику фактов, с тем чтобы оградить закон «этого сердца» от «порядка этого мира», но «парадокс» свободы и ответственности заключается как раз в том, что это невозможно. Иван Карамазов по свойственной ему эмоционально-ценностной ориентации - трагический герой.
На наш взгляд, все мотивационные механизмы и поведенческие акты героя в романе обусловливаются религиозным сомнением, в котором пребывает Иван Карамазов, осмысляемым и изображенным автором как в философском, так и в религиозном ключе. Именно религиозное сомнение, а не атеизм или богоборчество обусловливает поступки среднего брата.
Иван утверждается в своеволии и полагает истинную свободу только в Боге, но не имеет «очевидности сердца», для того чтобы обрести свободу и взять на себя ответственность. Для понимания этого хорошо известного в религиозной литературе «диагноза» следует осмыслить явление
религиозного сомнения в поведении героя, которое и ведет к подобному духовному диссонансу. Причина страданий Ивана, на наш взгляд, заключается не в том, что он стремится спасти свое понимание ценностей, а в том, что герой является носителем «мистической интуиции», которая побуждает его посягать на непостижимое и мыслить немыслимое. Носители мистической интуиции в романе (Алеша, старец Зосима), как и Иван, убеждены в том, что истинные причины поступков личности находятся в горнем мире, где пребывают причины причин и откуда исходят императивы, обусловливающие поведение человека на земле. Но в отличие от старца Зосимы, постигшего смысл и цель этого мира и принявшего вину и ответственность, а также Алеши, совершенно не отягощенного бременем «проклятых вопросов», Иван делает свой духовный опыт предметом рационального осмысления. Алеша ввергает дух свой в «горнило сомнений» лишь после того, как не свершилось ожидаемое им чудо. Иван не может обойти законы природы ввиду своей привязанности к фактам и делает их предметом духовного созерцания, что неизбежно влечет за собой религиозное сомнение и неприятие императивов горнего мира. Иван Карамазов стал жертвой «метафизического слабоволия», которое обусловило «слабость и колебания ноуменального самоощущения личности» и отразилось как мучительное сомнение в содержании религиозного опыта.
Немаловажным для понимания образов Алеши и Зосимы является то обстоятельство, что художественная мотивация поведения исследуемых персонажей включает не только психологический субстрат, но и религиозную и философско-этическую проблематику, находящую отражение в феноменологии художественного изображения эмоций и чувств, поэтому проблематика религиозной интенционально-сти воплощается в художественном тексте как один из мотиваторов участия в сюжетном движении. Следование идеалу -это художественный мотиватор Зосимы. Принцип организации его внутреннего мира - необходимость постоянной, сознательной работы над собой. Источник - любовь и сострадание. Именно любовь действенна и дает силы. В поведении Алеши сосуществуют две эмоционально-ценност-
ные ориентации. Согласованность «ума» и «сердца» - основная характеристика поведения послушника, но это состояние отражается в «сердце», в самости. Поскольку противопоставления «ума» «сердцу» в образе героя не происходит, антиномия рационального и эмоционального в поведении Алеши снимается. Поведение Алексея, кроме единственного эпизода после смерти старца Зосимы, когда его охватывает сомнение в справедливости устройства мира Божьего, не включает никаких побуждающих к «отрицательному» действию мотиваторов. В поведении младшего брата все духовные изменения происходят «по-детски» стихийно: не успев «взбунтоваться», он переносится в Кану Галилейскую и встает после сна «твердым на всю жизнь бойцом». Мистический опыт послушника становится источником его духовной энергии, доверия к Богу.
Потенциально человек может быть и святым, и грешником. Реально он не является ни тем, ни другим. Он несет и осознает то и другое лишь в зачаточном состоянии. Внутренний мир человека представляет собой своеобразную арену, на которой разворачивается борьба этих двух начал. Именно таким образом рождается каждый серьезный поступок. Конфликт сопровождается внутренним диалогом и эмоциональными переживаниями. В него вовлекаются все душевные функции (мышление, память, воображение, воля, эмоции и др.) и даже физиологические процессы. В некоторых случаях он может достигать предельного накала, выводить человека из нормального душевного состояния, вызывать психические и физиологические заболевания. Это причина духовного отчуждения героев Ф.М. Достоевского.
При сохранении художественной доминанты изображения личности в тексте последнего романа пятикнижия автор усложнял художественные средства изображения поступков героев, а также жанровые «принципы» последнего романа и совокупность свойственных ему стилевых и структурно-композиционных средств. Основное (мировоззренческое) соотношение заключается в смысловой сфере романа и вбирает в себя все «предвечные вопросы», которые ставило перед собой человечество - вопросы тео- и антроподицеи, вины и наказания, греха и возмездия, свободы воли и ответственности, а также, в первую очередь, антиномии рассудка и сердца.
Таким образом, мы пришли к пониманию того, что соотношение «ума» и «сердца» является как основой художественной доминанты изображения персонажей в исследуемом нами романе, так и средством для раскрытия глубинных процессов осознания героями себя в мире и мира в себе. Художественная мотивация поведения героев Достоевского может быть исследована с точки зрения позитивной науки и религиозной антропологии, но большего внимания заслуживает подход, который дает возможность учитывать все особенности поэтической антропологии автора. Таким подходом является, на наш взгляд, научная парадигма, разработанная А. М. Булановым, предметом которой выступают художественная феноменология «ума» и «сердца» в поведении персонажа и соотношение рационального и эмоционального в психоментальной структуре действующих лиц.
Литература
1. Буланов, А.М. Художественная феноменология изображения «сердечной жизни» в русской классике (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, И.А. Гончаров, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой): монография / А.М. Буланов. Волгоград, 2003.
2. Гегель, Г. Феноменология духа / Г. Гегель. М., 2000.
3. Иванов, В.И. Достоевский и роман-трагедия // В.И. Иванов // Родное и вселенское. М., 1994.
4. Ильин, И.А. Путь к очевидности / И.А. Ильин. М., 1993.
5. Мудрагей, Н.С. Рациональное - иррациональное - философская проблема (читая А. Шопенгауэра) // Вопр. философии. 1994. № 9.
The artistic motivation of the character behavior in the Dostoevsky’s novel “Karamazov Brothers” in the aspect of the phenomenology of the rational and the emotional
The artistic phenomenology of the rational and the emotional and the motivation of the Dostoevsky’s characters behavior are examined which as one of the few methodological ways gives us the opportunity to approach the analysis of the aesthetic phenomena of the novel Karamazov’s Brothers with positions that corresponding with its inhomogeneous nature.
Key words: Dostoevsky, Karamazov’s Brothers, phenomenology, motivation.
Т.В. ЮНИНА (Волжский)
МОДЕЛЬ ЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ И КОСМОЛОГИЯ В ПОВЕСТИ А. БЕЛОГО «КОТИК ЛЕТАЕВ»
Раскрывается тема взаимодействия космоса формирующейся человеческой души и большой Вселенной в повести А. Белого «Котик Летаев». Отражены основные философские модели пространства-времени, воплощенные в художественном мире повести.
Ключевые слова: космология, хронотоп, пространственно-временные модели: статическая, динамическая, реляционная, субстанциональная, радикальная.
В «Котике Летаеве» писатель возвращается к началу собственного бытия, и это путешествие во времени приводит его к началу внешнего мира. «Спуск» в свое личное «до-время» приводит его к космологическим моделям ранней Вселенной, разработанным только в середине XX в. Первый момент существования А. Белый характеризует как «ощущение математически точное, что ты - и ты и не ты, а какое-то набухание в никуда и ничто» . В этот момент нет «ни пространства, ни времени», но есть «состояние натяжений ощущений; будто все-все-все ширилось, расширялось, душило и начинало носиться в себе крылорогими тучами» (Там же: 27). Троекратное «все-все-все» представляет собой предельное умножение объектов , некую сверхплотность и неразличимость, с которой начинается мир ребенка. Но, с другой стороны, это точно передает модель расширяющейся Вселенной, возникшей из взрыва сверхплотного сгустка вещества, в котором, действительно, «не было ни пространства, ни времени». Перед нами радикальная концепция пространства-времени, согласно которой компоненты входят в структуру самих объектов и в случае отсутствия этих последних и сами не существуют . Для ребенка «ничего внутри: все - во вне» . Поэтому и времени внутри него нет. С одной стороны, сознания еще нет, с другой -